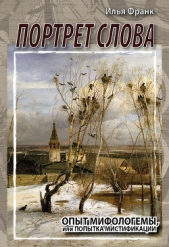Портрет героя

Портрет героя читать книгу онлайн
Автор романа — известный советский художник Мюд Мариевич Мечев. Многое из того, о чем автор повествует в «Портрете героя», лично пережито им. Описываемое время — грозные 1942–1943 годы. Место действия — Москва. Главный персонаж — 15-летний подросток, отец которого репрессирован. Через судьбу его семьи автор показывает широкую картину народной жизни в годы лихолетья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прямо передо мной — вход в подвал. Я ищу звонок, но там только дыра и торчащие провода. В это время дверь отворяется, и старуха, закутанная в платки так, что торчит только нос, с ведром, полным помоев, поверх которых плавает разломанная детская кукла, появляется на пороге. Шамкая провалившимся ртом, она спрашивает:
— Веркин, что ли, племянник будешь?
Я отрицательно качаю головой.
— …Сашки Громова нету дома!
Я шагаю в темную дыру подвала, стараясь не дышать запахом помоев и ощущая на спине ее сверлящий взгляд, ощупью спускаюсь по лестнице и попадаю в громадный полукруглый подвал, освещенный свисающей со сводчатого потолка маленькой электрической лампочкой. Иду к дверям, на которых поверх ободранной клеенки надпись: «ком. № 1» — и стучу.
— Кто там? — слышу я женский голос. Потянув на себя тяжелую дверь, входу в низкую комнату, наполненную мыльным паром.
Над корытом, нагнувшись, стоит женщина и, отводя влажной рукой тощие пряди волос, тревожно и быстро говорит мне:
— Из тимуровцев? Так вот! Не пущу я Ванечку! Вчера был, вернулся поздно, рукавицы порваны, валенки испачканы! «Где был?» — спрашиваю, — быстро продолжает она, не давая мне вымолвить ни слова, — тало…лом собирали этот… Не пущу, так и скажите Марье Степановне!
— Я не из тимуровцев, я…
И в это время из-за высокой японской ширмы появляется Большетелов.
— Вот, — подаю я ему сумку, — вот тот заяц.
Я вынимаю его: щетинистые усы, расправившись, торчат перед круглой, с блестящими стеклянными глазами, мордой.
— На! — И я вручаю ему зайца.
Большетелов берет его и прижимает к себе, не говоря ни слова.
— Да ты кто? — Все так же согнувшись, у корыта стоит его мать.
— Я… Я из школы. Мы вместе учимся.
— Зачем же ты? — И в голосе ее я чувствую раздражение. — Мы и купить можем!
Большетелов испуганно смотрит на мать. Поджав губы, она продолжает стирать.
— Угощать теперь нечем, — бурчит она, не предлагая мне садиться. Я чувствую себя неловко, и сейчас мой поступок кажется мне странным.
— Я пошел, — объявляю я.
— А ты где живешь? — очевидно проявляя вежливость, спрашивает она. Я отвечаю. — Что же! Садись, раз пришел! Посмотри, как живем…
Я сажусь на табурет и, держа сумку на коленях, осматриваюсь.
Тесная комната с кирпичным сводчатым потолком освещена отблеском последних лучей заходящего солнца, проникающих из ямы подвального окна, засыпанного снегом. Дощатый пол грязен и затоптан. Посредине комнаты стоит детская кровать, завешанная с боков тряпками. В углу — широкая постель покрыта лоскутным одеялом. Над ней висит икона в киоте под стеклом. На стене — «ковер» из клеенки с замком и плавающими в озере перед ним лебедями. Рядом в черной рамке висит фотография, на которой я вижу две головы в овалах из облаков: мужчина с усами в косоворотке и женщина с завивкой в бусах. Мне кажется, я где-то видел эти лица.
Напротив кровати — диван с продавленным сиденьем и полочкой с семью мраморными слониками. В углу безобразная чугунная раковина, под ней — помойное ведро. Другой угол отгорожен прекрасными ширмами.
— Мама! — просит Большетелов. — Можно я покажу ему мои рисунки?
— За хлебом пора! — раздраженно отвечает она. — Жрать нечего, а он рисует. Ну, чистый отец!
Большетелов вздыхает и тихо говорит мне:
— За зайца спасибо!
Он одевается, а в это время из детской кроватки раздаются сопящие звуки, и над ее краями показываются две маленькие ручки, вцепившиеся в сетку. Медленно раскачиваясь, появляется большая голова, вся в болячках, смазанных зеленкой.
— Сестра, — объясняет Большетелов.
А я спрашиваю у его мамы:
— Скажите пожалуйста, а откуда у вас эти ширмы? — И с интересом рассматриваю дивных птиц, инкрустированных перламутром по черному лаку.
— Не украдены! — буркает она, меряя меня презрительным взглядом.
— Я… я не хотел…
— Откуда?! От господ, известно… Кому такое нужно? Жили тут до госпиталя… Слава богу, выселили их, старух этих! Ванька и книг набрал, — замечает она злобно, — да я велела выкинуть. Не по-нашему, да и все голые бабы… Что стоишь, чучело? — накидывается она вдруг на Большетелова. — Ждешь, пока палатку закроють?
— До свидания, — обращаюсь я к ней, надеясь услышать в ответ хоть какое-то бурчание, но слышу только хлюпанье белья в корыте.
Мы выходим с Большетеловым из подвала, и я с наслаждением вдыхаю чистый воздух.
— А я журналы не выкинул, — говорит он мне, — я их спрятал! В котельной. Вы никому не скажете?
— Нет.
— А… а вам хочется рисовать?
— Да, иногда.
— А мне — все время! Я уже знаю — не буду продавцом. Обязательно буду художником! А если мамка будет мешать — убегу! Если рисовать всю жизнь, — мечтательно продолжает он, — можно много сделать картин. Я бы все время рисовал… и не учился бы нисколечко… Вот только красок много надо! — Он озабоченно вздыхает. — А после войны будут продавать дешевые краски?
— Обязательно.
Я протягиваю ему руку, он серьезно смотрит на меня и спрашивает:
— Скажите… а можно сделать фонтан?
— Из чего?
— Из шоколадной бумаги? И чтобы вода из него била?
— Нет. А зачем тебе?
— Для сказки, — застенчиво отвечает он. И мы расходимся.
Я иду по заледеневшему тротуару и все пытаюсь вспомнить, где я видел те лица на фотографии в облаках зеленоватого цвета. И когда дохожу до нашего проходного двора у церкви, то разом вспоминаю тот солнечный довоенный день.
Я вспоминаю: мы с мамой, радостные и счастливые, стояли среди шумной толпы на Сельскохозяйственной выставке, куда мы приехали из нашего Пуговичного переулка, где все знали о нашем несчастье, где не любили нас. Счастливы мы были и от солнца, и от того, что нас никто не знает здесь, что мы — как все, такие же люди, с руками и ногами, так же одеты, как все, и можем, как все, радоваться и смеяться, а не страдать и плакать, как там, на Пуговичном. И все было хорошо, но потом мы потеряли брата. Все время он был с нами, а тут исчез, будто испарился. Мама просто застыла на месте; мы оба смотрели во все глаза и вдали увидели толпу, собравшуюся в кружок, а посредине этой толпы была видна белая — по случаю выходного дня — фуражка милиционера.
— Он там! — сказал я. И, действительно, когда мы подошли, то увидели вспотевшего милиционера, озабоченно смотревшего на маленького брата, который именно в эту минуту обращался к нему:
— Я полагаю, преступлений больше не будет!
— Еврейчик, — сказали в толпе.
— Не похож.
— Еврейчик, говорю вам! Только они все знают!
— Карлик! Карлик! Из цирка!
После этих слов мама подошла к брату и взяла его за руку.
— Это мой сын, — сказала она.
— Слава богу! — выдавил из себя милиционер.
И тут я заметил, что мама вся посерела. Какой-то аккуратно одетый седой человек в золотых очках со странной усмешкой смотрел на нас. И я понял, что мама его знает, и мне почему-то стало не по себе.
— Идемте, — сказала мама и, повернувшись к милиционеру, поблагодарила его.
И мы быстро-быстро пошли, как будто убегали от кого-то. Чувствуя у себя на спине и пот, и холод, я не решался раскрыть рот. Так, почти бегом, мы дошли до фонтана; мама, оглянувшись, как будто успокоилась, а брат заявил:
— Я не могу ходить так быстро, у меня маленькие ноги.
А я все старался понять, что же произошло, и оглядывался. Мама стояла рядом, глядя на фонтан. И вот тогда-то и подошла эта пара: он с усами, в косоворотке, а она с завивкой «перманент-Европа» с маленьким ребеночком на руках, которого и видеть-то было нельзя, потому что весь он был погружен в кружевной сверток, перевязанный красной шелковой лентой с бантом. А я смотрел на этого мужчину с усами и сразу почувствовал, что вот такой и должен быть хороший человек: и спокойный, и красивый, и опрятный, и сильный, и какой-то надежный!
Я повернулся к маме, я хотел ей сказать, но сразу понял: сейчас произойдет что-то ужасное! Совершенно белая, она старалась заслонить нас с братом от того седого, в золотых очках, что шел прямо к ней.