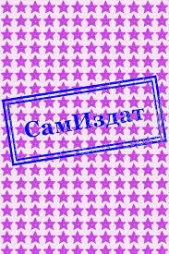Опаленные зноем. Июньским воскресным днем

Опаленные зноем. Июньским воскресным днем читать книгу онлайн
В книгу включены две повести Бориса Зубавина. Первая, «Опаленные зноем», посвящена годам войны и построена на биографическом материале, вторая, «Июньским воскресным днем», — результат поездки автора на западную границу — рассказывает о современной жизни пограничной заставы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У Лемешко, как говорится, людей было в обрез и даже меньше. Взвод имел на своем вооружении два станковых и два ручных пулемета, но для их обслуживания полагалось всего двенадцать человек. Тринадцатым значился сам командир взвода. Это по штатному расписанию. Но у нас были потери больными, убитыми и ранеными, и во взводе Лемешко, вместе с ним, в наличии было не тринадцать, а лишь восемь человек. А обороняли эти восемь человек участок в триста метров. Правда, вместе с ними в окопах находились еще прикомандированные к взводу два солдата с ружьем ПТР, артиллерийский наблюдатель и санинструктор Хайкин. Но эти люди выполняли свои специальные обязанности, и оборона участка все же в основном возлагалась лишь на пулеметчиков. Кто же были эти восемь человек?
Лейтенант Лемешко, донбассовец, смелый, веселый, хитроватый, прибыл к нам еще в сорок первом году под Селижарово прямо из госпиталя. Войну он встретил на границе, где был легко ранен в руку. Мне нравилась его невысокая, немного угловатая, кряжистая фигура, небольшие, зеленые, всегда прищуренные в улыбке глаза. Не было случая, чтобы он на что-нибудь пожаловался, у него всегда было хорошее настроение, он шутил даже тогда, когда другие вешали нос. Однажды во время марша нам не смогли из-за распутицы подвезти вовремя продукты, и мы целый день грызли одни сухари. Никто, конечно, не роптал, но некоторые, говоря о том, что у них все хорошо и они бодры духом, делали при этом такие скорбные физиономии и так безысходно и трагично вздыхали, что лучше бы они вместо этих печальных заверений в бодрости выругались, что ли, покрепче. Уже наступил вечер, мы остановились на привал, к моему костру собрались голодные офицеры уточнить распорядок завтрашнего марша.
— А у нас все сыты, — сказал Лемешко. — Мы вожика поймали и съилы. — Он, прищурясь, оглядел всех смешливыми глазами и добавил: — Фесенко поймал. Только вожик после зимы отощал, но окорочка у него были вкусные. Один окорочок я съил.
Все засмеялись, а Никита Петрович Халдей, приняв это всерьез, с упреком сказал:
— Что это такое, товарищ Лемешко, ежей начали есть! Они же совершенно несъедобны.
— Мы его крепенько прожарили и даже сала натопили трохи.
— Ай-ай-ай! — качал головой Халдей. — И не стыдно вам.
— И юшка получилась наваристая. Юшку Фесенко выхлебал.
— Тьфу! — плюнул наконец чистоплотный и брезгливый Никита Петрович.
Тут в разговор ввязались Веселков с Макаровым и, чтобы поддразнить Никиту Петровича, стали вспоминать всякие непотребные кушания, и такое поднялось возле нашего костра веселье, такой зазвучал раскатистый, дружный хохот, что, честное слово, трудно было поверить, что это смеются люди, которые прошли сорок километров по весенней слякоти, промокшие и, в довершение ко всему, съевшие всего лишь по сухарю, запив его кипятком. Лишь позднее Лемешко признался Никите Петровичу, что никакого «вожика» он и в глаза не видел, а сказал это для того, чтобы, как он выразился, разрядить «моральную обстановку».
Люди во взводе подобрались под стать командиру — смелые, веселые, здоровые. Выделялся среди них сержант Фесенко, харьковчанин, металлург, носивший большие, лихо закрученные русые усы. Стройный, худощавый, ловкий, он отлично исполнял обязанности и командира первого отделения, и помкомвзвода.
Командиром второго отделения был сержант Важенин, один из лучших пулеметчиков роты: никто, кроме младшего лейтенанта Огнева и старшины Лисицына, не мог быстрее его разобрать и собрать замок пулемета, найти и устранить задержку. Высокий, слегка сутулящийся, веснушчатый, классически курносый, он мечтал по окончании войны поступить в офицерское училище и уже много раз при случае доверительно спрашивал у меня, стоит ли ему поступать туда, так как боялся, что настоящего офицера может из него не получиться. Дело в том, что у Важенина был очень мягкий, уступчивый характер. Лемешко говорил, что с таким характером девкой хорошо быть. Мы с ним однажды долго обсуждали будущее Важенина и решили, что он, конечно, может пойти в военное училище, только не в строевое, а в техническое, потому что командовать людьми с таким мягким характером он совершенно не годится и даже со своим отделением, в котором у него только младший сержант Челюкин и солдат Панкратов, не может справиться и старается все сделать за них сам, лишь бы они были довольны. Важенин стеснялся командовать Панкратовым потому, что у того сыновья были ему ровесниками. Сыновья его были близнецами, и один, танкист, служил на Первом Украинском фронте, а другой, сапер, воевал на Карельском перешейке. Они писали Панкратову боевые письма, которые тот читал всему взводу, не выпуская при этом изо рта свою вечную прокуренную трубочку. Сыновей своих Панкратов очень любил, называл их «мои богатыри». Судя по фотографиям, богатыри были все в него — маленькие, носатые, должно быть, такие же деловитые и с чувством собственного достоинства.
Другой солдат этого взвода, Трофимов, принадлежал к тем веселым, беспечным неудачникам, на которых все шишки валятся, а они только улыбаются в ответ и озадаченно разводят руками, говоря при этом: «Гляди ты! Я хотел как лучше, а вышло вон оно как!» Одно время Трофимов был у Лисицына в ездовых, но у него постоянно рвались постромки, вожжи, подпруги, ломались дышла, и он в конце концов даже сам запросился, чтобы его освободили от этой трудной должности. Но, появившись на переднем крае, он, как магнит, стал притягивать к себе все осколки и уже дважды был ранен, причем в самое неподходящее для такого случая время, когда на фронте стояло почти полное затишье. Первый раз это случилось так. За весь день на нашем переднем крае тогда разорвалась лишь одна мина, выпущенная фашистами из ротного миномета. Но разорвалась она именно там, где стоял Трофимов, порвала плащ-палатку, которой был прикрыт станковый пулемет, превратила кожух этого пулемета в решето, и один осколочек, величиной с горошину, вонзился Трофимову в ягодицу. А во второй раз даже никто не мог сказать, откуда прилетел такой же осколочек. Трофимов в это время считал ворон — глядел, разинув рот, в небо, где кружился наш истребитель. Осколочек влетел, не задев ни губ, ни зубов, ни языка, в рот Трофимову и впился в щеку. «Гляди ты, — удивился Трофимов, держась в первом случае рукой за ягодицу, во втором — сплевывая кровь. — Меня, кажись, ранило». Это «кажись» давало ему возможность отлеживаться в госпиталях, откуда он прибывал к нам, как из дома отдыха. Его приятели, ефрейтор Огольцов и младший сержант Челюкин, рослые, дисциплинированные, исполнительные парни, все время подтрунивали над его неудачами, а когда он был в госпиталях — скучали без него, то и дело загадывая: «Как-то наш Трофимов там?..»
И Огольцов и Челюкин пришли к нам в батальон еще в сорок первом году, в самом начале войны. Они были из одной деревни и во взводе Лемешко считались ветеранами. Единственным человеком в этом взводе, которого я знал еще мало, был солдат Ползунков, безусый парнишка, совсем недавно впервые попавший на передний край и поглядывавший на все глазами доверчивого, любознательного ребенка. Новая шинель еще даже не лежала на нем как следует и топорщилась на спине коробом.
Все эти солдаты и сержанты бились сейчас с немцами, а я не знал, что у них там творится, а главное, ничем не мог им помочь. Правда, как я уже сказал раньше, кроме них в окопах находились еще два солдата-петеэровца, артиллерийский наблюдатель и санинструктор Хайкин. Петеэровцы были люди пожилые, степенные, серьезные, до того привыкшие ходить парой, неся свое ружье на плечах, что, даже когда были без ружья, все равно шли в затылок. Сейчас в ночном бою от их ружья, пожалуй, было мало проку. Столько же проку было и от артиллерийского сержанта, вооруженного наганом. Санинструктор же умел лишь накладывать повязки да проверять рубахи на вшивость. Лемешко правильно сделал, оставив его возле телефона. Но телефон молчал. Что там у них произошло? Подоспели ли пулеметчики от Сомова, Макарова? Ничего этого я не знал. Больше того, мне ясно послышалось, что там кто-то крикнул «хальт».