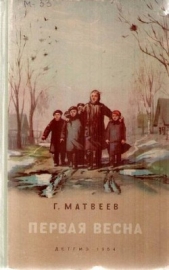Крушение

Крушение читать книгу онлайн
Знаменитая трилогия замечательного писателя-фронтовика Василия Дмитриевича Соколова (1919—1990) повествует о времени тяжких испытаний и великих подвигов советских людей, не сломленных трагедией 1941 года и нашедших в себе богатырскую силу сдержать и разбить врага.
Вторая книга трилогии продолжает повествование автора о судьбе русского человека и его подвиге в Великой Отечественной войне. Действие книги происходит в Москве, у стен Сталинграда, на Воронежской земле, в партизанских лесах Белоруссии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Домой он сразу не пошел, возвращаясь с реки. Захотел побывать в семье Тихона. Подходя, увидел длинную, мазанную глиной избу под двумя склоненными ветлами, готовыми вот–вот упасть на соломенную крышу. Возле земляной лунки с водою для кур, в тени, лежала дворняжка, успевшая прибежать с реки. Завидя военного, она не встала, лишь помахала ему мохнатым, облепленным репьями хвостом.
В сенях было сыро и прохладно, из отворенной двери избы несло тесным, спертым воздухом: пахло чем–то вареным — пареной свеклой или зеленью, кажется, даже конским щавелем. Хозяйка — темнолицая, с темными впадинами под глазами — встретила Кострова без особой приветливости, даже не предложила поначалу стул.
— Да вы проходите, — наконец сказала она и вытерла подолом табуретку, придвинула Алексею.
— Захотел поглядеть, как вы живете, — проговорил он и окинул глазами полати под самым потолком, печку с глубокой трещиной наискосок. Трещину, покрытую копотью, дымившую, видимо, во время топки, не замазывали, с полатей свисала выбитая доска, входная дверь перекосилась, — нет, умелец на все руки столяр Тихон этого бы не потерпел.
Даже при быстром огляде виделся беспорядок в избе.
— Видать, дяди Тихона дома нет. Где же он? — поинтересовался Костров.
Тетя Глаша — так звали хозяйку — не ответила, порылась в переднем углу, под иконами, обложенными сухим чабрецом, и молча протянула ему бумажку в желтых подтеках, «…погиб смертью храбрых в боях за советскую Родину», — прочитал Алексей и вдруг почувствовал, как в глазах потемнело, и очень–очень неловко стало ему в этот момент глядеть на тетю Глашу.
И, будто поняв это, тетя Глаша удалилась в закуток, постояла там и вышла, утирая подолом не просыхающие от слез глаза.
Широкие, занимающие чуть ли не половину потолка полати заскрипели. Оттуда высунулись разом ребячьи головы; девочка с льняными волосами, поглядев испуганно, тотчас упряталась в глубь полатей, остальные не прекращали упористо и диковато разглядывать человека в военной форме.
— Сын Митрия, родственником нам доводится. Небось помните, когда он к нам приходил… Тихон учил его ящики сбивать, — сказала тетя Глаша, кивая на Алексея.
Дети посмелели. Просунулись еще ближе на край полатей, и Кострова странно удивило, что все они были голые. Подумалось, что мать искупала их и велела подождать на полатях, пока не высохнет белье.
Тетя Глаша, кажется, чутьем угадала, о чем думает Алексей, и заговорила надорванным голосом:
— Вы уже не обессудьте. Малые дети, несмышленые, чего с них взять? — Помедлила, стоя, подперев рукою подбородок. — Голышом вон сидят, и одеться не во что. Бывалыча, Тихон подработает, скопит деньжонок и — в магазин покупать ситчику всем на рубашки. Жили, не жаловались. А теперича где его, матерьял, купишь, да и не по карману. Прокормиться и то не на что стало… Жуткая нынешняя была зима, думали, не перенесем.
— И хлеба не было? — спросил Алексей.
— Немножко было припасено. Загодя Тихон четыре мешка ржи подкупил. Привез и говорит: «Ссыпай, жена, в ларь и не транжирь. Придет черный день — сгодится». Чуяло его сердце, что скоро грянет война. Тем и кормились, а так бы и не выжили. Уж больно строгая зима, — вздохнула тетя Глаша и поглядела на рассохшийся стол, всплеснула руками: — Чем вас угощать–то — просто ума не приложу.
— Что вы, зачем? Никаких угощений, — поспешно, с теплотою в голосе возразил Костров и опять поглядел на полати: голые, некормленые дети смотрели на него с какой–то беспричинной и натянутой радостью. Алексею хотелось как–то помочь им, но ничего с собой у него не было. «Пожалуй, сменное белье надо отдать. Попрошу маму — пусть снесет», — подумал он, жалея, что при нем и денег лишних нет — еле–еле хватит на дорогу.
Уходя, медленно, в неловком смятении Алексей переступил через порог подавленным и будто в чем–то виноватым.
Когда очутился на выгоне, опять увидел, как из окон, с порога наружных дверей женщины косят на него глаза — скорбные, мрачные, совсем отрешенные, — эти глаза словно в чем–то обвиняют его, жгут душу огнем. Он не выдержал этих непрошеных взглядов, повинно опустил голову и вдруг вновь особенно остро почувствовал, что война отняла у каждой семьи кормильцев, и ему, лейтенанту Кострову, просто неудобно ходить по селу, ходить, сознавая, что пусть ты и ранен, прихрамываешь, но жив, а многих ушедших на фронт уже нет.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Три дня прошли в волнении.
По утрам выходя на огород, Алексей вел с матерью ничего не значащие разговоры, вроде того, что одна курица привыкла нестись в лопухах и уже отложила семь яиц, или о том, что птице, свившей гнездо на низком ясене, вечно угрожает кошка, — приходится следить за птенцами, как за малыми детьми. Слушая мать, Алексей радовался ее домовитости и тому, что она не жалуется на свою хворобу. Когда Алексей оставался один, он принимался думать о порухе на селе, о бесприютных, голых детях Тихона. Иногда всплывала перед его взором Наталья. Правда, он уже свыкся с мыслью, что с Натальей все порвано, и если думал о ней, то с обидой за себя, за свою попранную честь, наконец, за самого Игната, которого не переставал уважать и жалеть, зная, что человек он добрый и не хотел разлада. Однако что–то удерживало Алексея в этот приезд навестить Игнатов дом.
С восходом солнца, на четвертый день, медленно заскрипела от дома Костровых телега с впряженной рыжей и худой кобылой. Возле нее увивался жеребенок. По одну сторону телеги сидел Алексей, а по другую — вполуоборот к нему — отец. Солнце бралось греть, парующая земля и запах луговых трав бодрили в ночь остуженный и еще неподвижный воздух.
Лошадь шла неторопливо. Порой она, как бы спотыкаясь, нежданно хватала длинно вытянутыми губами пучки травы на обочине. Митяй подергивал веревочными вожжами, понукая ее идти проворнее. Улучив минуту, он поглядывал из–за плеча на сына, находил, что тот сильно волнуется. Алексей и вправду свой отъезд переносил тяжело. Лицо его потускнело, в глазах стояла грусть, не потухшая и после прощания с матерью. Он сгорбился и рассеянно глядел, как лошадь нудно и усердно качала косматой гривой, вздрагивала, когда слепни присасывались к бокам, укалывая своим жалом.
— Ты сразу на позиции пойдешь? — спросил наконец Митяй, когда телега прогромыхала по мосту и начала подниматься на взгорок.
— Может быть, временно побуду в резерве, а потом придется, конечно, воевать.
— Да… — прерывисто вздохнул Митяй и упавшим голосом добавил: — Ты уж не обижайся на меня за сердитость… Лишнего наговорил вчерась–то… По горячности… Себя береги. Мать–то, видел, как убивается. Вон и по сю пору не наглядится, — добавил, обернувшись, отец.
Алексей тоже оглянулся, но увиденное не дало ему утехи. Напротив избы, прямо на дороге, стояла мать. Стояла одинокая, не отводя руки от лица… «Увижусь ли? Ведь она такая слабая…» — встревоженно подумал он и тотчас начал упрямо гнать сомнения, пытаясь успокоиться. В волнении не заметил, как почти машинально выдергивал из подстилки зеленые стебли травы и надкусывал их.
Порядочно времени ехали безмолвно. Мост давно скрылся из виду. Дорога шла вдоль извилистой реки, не вырываясь пока на простор полей. Откуда ни возьмись, с речной низины наперехват им поспешила девушка. В руке у нее был отвислый узелок. Она шла опустив голову и стараясь совсем не глядеть на повозку, хотя, как успел приметить Алексей, взглядывала украдкою.
— Верка Игнатова. На базар подалась, — совсем равнодушно заметил Митяй.
— Подвезем, — отозвался Алексей, и когда она очутилась близко, он счел неприличным сидеть, спрыгнул с повозки и, слегка отставая, обождал ее.
— Здравствуй, Вера! — сказал он, протягивая ей руку.
— Ах, это вы… приехали… Алексей! — произнесла она с придыханием, и трудно сказать, чего было больше в этом осекшемся голосе — не то испуга, не то скрытого волнения. Она подала белые, сложенные лодочкой пальцы, но не взглянула на него, понурилась, хотя и видно было, как напряженно дрожат ресницы.