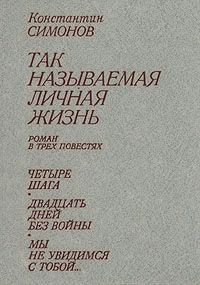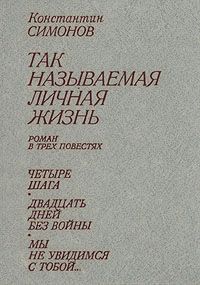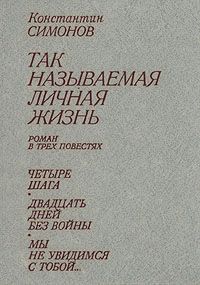Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)

Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) читать книгу онлайн
В томе помещен роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», содержание которого определил сам автор – «о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Давным-давно. Еще до войны. Я полюбила его, несмотря ни на что, но он об этом не хочет помнить.
«Значит, вот почему он при своем бравом виде и призывном возрасте оказался не на войне. И при встрече там, в Ташкенте, не стал сообщать мне о своей болезни – другой на его месте поспешил бы доложиться, а этот – нет! – с чувством запоздалой симпатии к человеку, так или иначе, но отобравшему у него жену, подумал Лопатин. – Странно, что промолчала Ксения. Казалось, чего бы лучше тогда в Ташкенте объяснить своему первому мужу обстоятельства, оправдывающие ее второго мужа!»
– Удивительно, что ты мне сообщаешь об этом только сейчас, – сказал он вслух.
– Ничего удивительного. Я когда узнала, что ты приедешь в Ташкент, заранее решила, что непременно скажу тебе об этом, чтоб ты знал про него, что он не какой-нибудь тыловой ловкач. Но он мне запретил. А с ним не очень-то поговоришь! Вот ты сидишь сейчас, и я говорю тебе вещи, которые ты, может быть, не разделяешь, но ты сидишь и слушаешь, потому что ты человек другого воспитания. А он, если ему что-нибудь не нравится, и договорить не даст!
«Да, не давать тебе говорить – самое жестокое, что можно с тобой сделать, – подумал Лопатин о Ксения. – Я додумался до этого только к середине нашей совместной жизни, а он начал сразу закручивать гайки. И рядом с этим кремнем я, со своими былыми вопиющими недостатками, начинаю теперь казаться ей чем-то вроде облака в штанах, к сожалению, сорокавосьмилетнего».
Ему надоело сидеть, и он заходил по комнате. В былые времена она остановила бы его, но сейчас не остановила: ей не терпелось выговориться до конца.
Он ходил взад-вперед, а она продолжала говорить и, когда он поворачивался, почти всякий раз ловила глазами его глаза.
Последняя, самая крупная провинность Евгения Алексеевича, оказывается, состояла в том, что две недели назад, прилетев на несколько дней в Москву по делам театра, он не пошел в госпиталь к Лопатину.
– Ничего не взял на себя. Все самое трудное, как всегда, свалил на меня, – сказала Ксения.
А свалил на нее он, оказывается, объяснение с Лопатиным насчет обмена. Несмотря на все ее просьбы поговорить с Лопатиным как мужчина с мужчиной, категорически отказался, сказал, что у него есть хорошая комната и, если она хочет с ним жить, они будут жить в этой комнате до конца войны. А если она не хочет жить с ним в этой комнате, то у нее есть своя комната в квартире Лопатина, и она может туда возвратиться – это ее дело! А он не пойдет к ее бывшему мужу, лежащему после тяжелого ранения в госпитале, и не будет морочить ему голову разговором об обмене комнат.
«Скажи пожалуйста, везет же ей на хороших людей!» – подумал Лопатин, усмехнувшись тому, как без колебаний, самодовольно отнес себя к числу хороших людей, на которых ей везет.
– Сказал мне, что ему, видите ли, стыдно и чтоб я зарубила себе это на носу. Так и выразился. И что не советует мне этого делать, потому что ему будет стыдно за меня! Он, оказывается, знает, что стыдно и что не стыдно, а я не знаю! – раздраженно говорила Ксения. – Мне плохо с ним, Вася, плохо. И самое плохое, что мне некому об этом сказать, кроме тебя.
В наступившей тишине она сообразила, что сказала что-то не то, и мгновенно заплакала. И ему пришлось доставать из кармана бриджей платок, потому что она не только плакала, но при этом растерянно оглядывалась, где бы взять что-нибудь, чем вытереть слезы.
– На, возьми, – сказал он, протягивая платок, – чистый. Нина погладила и сунула в карман, но я не пользовался.
Его слова о Нине, которая погладила ему платок, вызвали новый приступ слез. Приложив платок к лицу и сразу же оторвав его, она, плача и улыбаясь сквозь слезы, смотрела на него умиленно и радостно, как на что-то навсегда утраченное и вновь обретенное.
Лопатин помнил это ее выражение лица, которому она знала цену и которое появлялось у нее не часто, а только в самые драматические моменты их былых объяснений. Если б не помнил, его бы, наверное, проняло.
Еще раз пройдясь по комнате, он остановился и стоял не оборачиваясь. Стоял и думал: где же все-таки у человека эта пропасть между притворством перед другими и притворством перед самим собой? И всегда ли, даже самый неискренний, человек замечает этот свой прыжок через пропасть?
– Вася, – позвала она.
– Да? – Он повернулся к ней.
– Я подумала сейчас, что мы с тобой оба, наверное, не поняли друг в друге чего-то самого главного…
«Ну, вот и приехали туда, куда, оказывается, ехали с самого начала», – подумал он, встретив ее ожидающий взгляд.
– Пойди в ванную, умойся, успокойся и приходи обратно, а то мне тебя жаль.
– Правда, жаль? – сквозь слезы спросила она. – Правда, жаль?
– Конечно.
И она, почувствовав по его голосу, что это действительно правда, все еще продолжая плакать, поднялась и несколько секунд стояла, кажется, не решив, что делать – обнять его, боясь, что он отодвинется, или послушаться, выйти и вернуться красивой и спокойной, взявшей себя в руки, такой, какой он когда-то любил ее после ее слез и раскаяний. Поколебавшись, она пошла к дверям, бросив на стол мокрый платок, но через два шага вернулась, чтобы взять его с собой. Наверное, ей показалось некрасивым оставлять здесь этот зареванный платок – неизвестно было, что потом с ним делать.
Лопатин ходил и думал над неожиданностью всего этого. Не так уж она корыстна, чтобы хотеть вернуть его себе только потому, что его имя за три года войны стало намного известней, чем раньше, и дальнейшая жизнь с ним может оказаться благополучней, чем жизнь с этим ее директором театра. И не настолько расчетлива, чтобы где-то еще по дороге обдумать все это до конца. Наверное, все гораздо проще: этих людей там, в той квартире, в самом деле не оказалось на месте, и ее что-то толкнуло поехать оттуда сюда, и уже здесь она вдруг подумала: «Господи! А что, если не возиться со всеми этими обменами, со всем этим неопределенным будущим, а что, если вдруг можно просто приехать в Москву и жить в этой квартире, как жили в ней до войны, жить, как многие другие люди, которые жили вместе до войны, а потом не жили вместе, а сейчас опять живут вместе; и никого ни о чем не просить, и ничего не добиваться; жить, как выйдет, снова с этим сорокавосьмилетним человеком». Наверное, все это и нахлынуло сейчас на нее, никогда не допускавшую мысли, что ее может не хотеть какой-то мужчина.
Она вернулась умытая, красивая и спокойная и села в его кресло, как школьница, положив руки на колени и всем своим видом показывая, что приготовилась слушать его.
А что ему было сказать, когда он думал совсем не о том, будут или не будут они снова жить вместе, потому что знал – не будут, – а думал совсем о другом: где ее вещи – оставила ли она их с дороги там или привезла сюда? В коридоре их не было видно, но чемоданы могли стоять и у нее в комнате. Он смотрел на нее, все ясней понимая, что ничего не должен ей говорить. Отвечать «нет» на исповедь женщины, у которой вырвались слова, которыми она, в сущности, предлагала тебе взять ее обратно, значит, совершать ненужную жестокость, а ненужная жестокость – одна из самых подлых вещей на свете. Лучше просто не понять этой исповеди. Настолько не понять, чтобы ей самой потом было легче уверить себя, что она вовсе не это имела в виду. И вместо того «да», которого она ожидала, и того «нет», которого ему не хотелось произносить вслух, он спросил у нее, на сколько дней она приехала в Москву и где собирается жить, там, у Евгения Алексеевича, или здесь, в своей комнате.
– Это зависит от тебя, – сказала она, еще не поверив, что продолжения того, начатого ею в слезах, разговора уже не будет.
– Почему от меня? Делай, как тебе удобнее.
– А мне теперь нечего больше делать здесь, в Москве. Раз он… – «он», сказанное ею об Евгении Алексеевиче, прозвучало враждебно, – не хочет ничего делать до конца войны, а ты, кажется, сам не знаешь, чего ты хочешь, я одна взваливать все это на свои плечи не буду. Отмечу командировку, потому что, хотя я теперь актриса вспомогательного состава, но новую пьесу я им из Москвы привезти должна, никто другой, кроме меня, этого, как выяснилось, не может, – достану билет – и уеду.