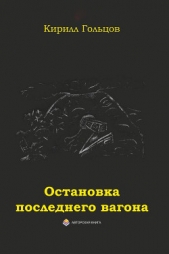Рассвет пламенеет

Рассвет пламенеет читать книгу онлайн
Роман Б.А. Беленкова посвящен боевым будням героических защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Подождите, вот… — Рождественский помолчал, осторожно приоткрывая глаза. — Вот, кажется, прошло — вижу! — с облегчением приговорил он и тихо засмеялся от радости.
Окопные будни — пожалуй, самое мучительное, что переживается и переносится солдатом в тягостные дни войны, — сидит человек да постреливает и ждет — может, будет команда в атаку?.. И она казалась менее страшной, чем копошиться на дне в зябкой яме. До ночи и не ахти кто рискнет выползти на поверхность, чтобы на просторе поразмять затекшие ноги. Так и сидят, и никто не знает, откуда грозит опасность. Коротая время, солдат то прикорнет в промерзлом уголке, то, насупившись, думает о своей семье, вспоминая бывалую вольность и мир на родине.
Но были и такие, как Никита Пересыпкин, — для него молчание — злейший враг. И все же порой он умаивался; голос его затихал с каждым словом, и весь он смирел постепенно, словно объятый грустными воспоминаниями. В то же время покориться этому невольному унынию Никита никак не хотел. Он тотчас доставал губную гармошку, — а играть на ней был мастер, — и начинал выводить что-то. Грустная это музыка выходила. Но только Симонов появлялся в землянке, Пересыпкин тихонько вздыхал и тотчас заматывал гармошку в тряпицу и прятал ее в вещевой мешок.
— Эх, Андрей Иванович, напрасно не любите музыки, — обиженно сказал он как-то. — Вон у вашего ездового-кавказца какая есть!.. Зурной, кажись, называется. Я вчера побывал у них — вынул из мешка этот сердечный, ну чистая требуха из барашки! Приловчился он, ка-ак дунет на ней!.. А она — ууу, уу-у! Эх, мать честная. Животы надорвали хлопцы. Он даже, кажись, маленько обиделся на них. «Ай, ай, зачем смеешься?». И я с ним согласен, — музыка для души, — что чарка водки для солдата, так и несет тебя, так и приподнимает!
— Это для такого, как ты! — с добродушной усмешкой заметил Симонов.
— А то как же!.. И для такого, как я, Андрей Иванович, — нарушая обычное правило, пререкался Пересыпкин, закатывая под лоб небольшие хитроватые глаза. — Чарка в теперешней жизни — дело не лишнее.
— Ты что-то про уток хотел рассказать мне однажды? — напомнил Симонов. — Охотником был, да? Давай.
— До войны, Андрей Иванович, я в колхозе работал. Охотой не занимался. А про уток вспомнилось вот по какому случаю. В воскресный день, как раз в день войны, мы с батей картошку колхозную подпахивали по первому разу. Конь распашню тащит — шагает себе покорно да пофыркивает, хвостом овода лупит. Остановишься — он тянется к зеленой травке. И все было как-то мирно и очень тихо. И знаете, какое в тот момент небо над головой висело?.. И какие жаворонки трепыхались, песни про себя разводили? Прямо грудь распирало от радости, честное слово! В тот час такое во мне состояло чувство, рассказать никак не возможно. Вспомнишь, засосет под ложечкой. И больно, и горестно делается.
— О-о!.. — протянул Симонов, грустно глядя на связного. — А раскисать-то нам с тобой не положено… — Затем, помолчав, тепло спросил: — По семье соскучился, да?
«Кажется, и в самом деле соскучился», — хотел было ответить Никита, но вместо этого постарался придать своему лицу боевое и даже развязное выражение. Затем вдруг ему в голову пришла мысль: «Напрасно, Никита, хочешь выдать себя за смелого!». Связной в глубине души считал себя совсем малополезным на войне человеком и тайно мучился этим.
— У каждого болячка на свой манер, Андрей Иванович, — уклончиво ответил он Симонову. — Вот я, например, про уток завел разговор. И знаете, почему?.. Как мы тогда с батей подпахивали картошку, — это было далеко от нашей деревни. У нас приволье!.. Слышу это я — утка потихоньку кряк да кряк, — любопытство разобрало. Дай, соображаю, погляжу — где это она? Ну и пополз, ружьишко было при мне, — после работы собирался пробежать за дичинкой какой-нибудь. Озеро там огромное-преогромное. Из травы выглядываю — на берегу семейка крякв отдых сотворяет. Малыши где как, а мамаша — та поближе к воде. Сперва страсть какое у меня было желание стрельнуть, да залюбовался ими. Наверное, слышит старая беду. Вынет голову из-под крыла, поводит ею, послушает и опять, дура, сунет ее под крыло. А тут ястреб! Э, думаю, утки пусть подрастут, а вот этого гада сейчас прикончу, — бац я по нем!.. А тут откуда ни возьмись жинка моя — бежит!.. У меня сердце замерло — что это она, как угорелая? «Никита, война!». Да ка-ак заголосит! Тут уж мне не до ястреба стало. Баба у меня ничего себе — прижалась ко мне, дрожит вся целиком, смотрит на меня, а глаза у нее, как у очумелой. Знаю, за меня, за детей боится! Ну, а что ей можно было сказать? Чем ее успокоить?.. Тянется, хочет поцеловать меня… и я тоже было подался к ней. Потом черт-те знает, как-то защемило в груди, что даже отвернулся, чтобы не видеть у бабы страшных от перепуга глаз. Тут батя подошел, степенно, спокойно так… Присели мы все рядком, потолковали о том, о сем, но про войну ни слова, — страшно было о ней. Дня через три или четыре вот и пошел!.. И вот теперь жена пишет, — а письма закапаны слезами — я знаю, какие они у нее соленые… «Скоро ты вернешься домой, Никита?» — спрашивает. А разве я знаю, разве сейчас пора!.. Но жинка в новом письме опять за свое. Приду, — написал я ей, — изничтожим гитлеровцев, приду!.. сказано тебе. Ведь я и сам рад бы хотя глазом глянуть на вас, да больно далеко нахожусь.
Сказанные Пересыпкиным слова больно отдались в сердце Симонова: в каждом письме из дому и у него мать-старушка постоянно спрашивала: «Андрюша, может, на побывку бы ты постарался?».
Но он моментально овладел собой.
«Вот оно как, не сразу человек познается! — подумал он. — Обычно нас сразу пленяет солдат-герой, человек находчивый, ловкий, — неплохо, чтобы и красивый при этом, — за которым, как цепочка, удачливость тянется. А Никита, ну что он?.. Думалось — так себе, балагур и выпивала, — обыкновенный… А копани его, — с душой человек. И о семье, как это хорошо у него. Теперь уж пусть и не прогневается — от выпивки отучу его, не будь я комбатом!.. Одурманивать свою голову — это ему ни к чему. Если ты человек хороший, так стремись-ка быть еще лучшим».
Перед обедом Симонова вызвали в штаб полка, — а когда он вернулся, Пересыпкин развел руками и сокрушенно доложил:
— Беда, Андрей Иванович, поварята нас с вами оставили без горячей пищи!
— Как же это так могло случиться? — с добродушной усмешкой спросил Симонов. — Нас с тобой и без обеда оставили!
— А вот как случилось: сижу я тут и поджидаю повара. Вижу, кто-то ползком с тыла нажимает на наш окоп. На спине у него, прямо как башня у немецкого тигра, термос… А фрицы, кто во что горазд, дуют по нашему переднему краю. И слышу: и-и-у-бах! Запахло потом маленько. Но вот слышу — рядом уже сопит. Потом Мирошкин, чисто подбитая танкетка, так и скатился в окоп ко мне.
— Так что же с нашим обедом все-таки? — нетерпеливо поморщившись, спросил Симонов.
— Я же к тому и клоню, Андрей Иванович, — глядь я на него, спина у этого Мирошкина чисто вся в разваренном пшене. Рассупонился он и чуть не обомлел: разворотило его посудину осколком — в дырищу Москву можно увидеть. Что, говорю, накрылся наш супик? — Молчи, говорит, не то наверну я тебя…
— Ну, в общем так, — не дав Пересыпкину закончить, сказал Симонов, — это не беда, что нам с тобой обеда не досталось. Бежать будет легче до высоты. Наступаем сегодня, Никита.
XXIV
Вечером заговорили дивизионные батареи. Заколыхались задымленные фонтаны взрывов; вся высота задышала огнем. На огромном протяжении по фронту засверкали огненные столбы.
— Ракетницы заряжены ли? — спросил Симонов у Пересыпкина.
— Так точно, товарищ гвардии майор! — отчетливо, но немного волнуясь, доложил тот. — Все, как положено…
Над головами, разрывая воздух, свистели снаряды, словно теснили друг друга.
— Наши дают жизни, Андрей Иванович, а?
Взглянув на высоту, Симонов ответил с напускной строгостью: