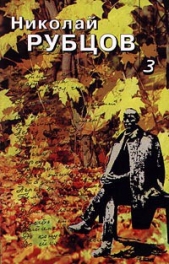Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XIII
Или "La Comparsita" -- по мне, самое гениальное музыкальное произведение нашего времени. После этого танго никакие триумфы не имеют смысла: ни твоей страны, ни твои собственные. Я никогда не умел танцевать -был слишком зажатым и к тому же вправду неуклюжим, но эти гитарные стоны мог слушать часами и, если вокруг никого не было, двигался им в такт. Как многие народные мелодии, "La Comparsita" -- это, в сущности, "плач", и в конце войны траурный лад был уместнее, нежели буги-вуги. Никто не стремился к ускорению, все хотели сдержанности. Потому что смутно догадывались, к чему вообще все идет. Так что можете списать на нашу латентную эротику тот факт, что мы были так привязаны к вещам, которые еще не стали обтекаемыми: к черным лакированным крыльям сохранившихся немецких BMW и "опель-капитанов", к не менее блестящим американским "паккардам" и к похожим на медведей "студебекерам" с прищуром их ветровых стекол и двойными задними шинами (ответ Детройта на нашу всепоглощающую грязь). Ребенок всегда хочет перегнать свой возраст, и если уж невозможно вообразить себя защитником отечества (поскольку вокруг тебя полным-полно реальных защитников), то можно унестись в воображении в некое невнятное иностранное прошлое и увидеть себя в большом черном "линкольне", с испещренной фарфоровыми кнопками приборной доской, рядом с какой-нибудь платиновой блондинкой, припадающим к ее фильдекосовым коленям на мягком, лоснящемся кожей сиденье. Да даже и одного колена было бы достаточно. Иногда достаточно было просто прикоснуться к гладкому крылу. Говорит вам это человек, родной дом которого любезными усилиями Люфтваффе был стерт с лица земли и который впервые попробовал белый хлеб восьми лет от роду (или же, если эта метафора слишком чужда, -кока-колу в возрасте тридцати двух). Так что спишите это на вышеупомянутую латентную эротику, но проверьте в телефонной книге, где выдаются удостоверения мудакам.
XIV
Еще был замечательный, цвета хаки, американский термос из гофрированного пластика, с похожим на ртуть зеркальным цилиндром внутри, который принадлежал дяде и который я разбил в 1951-м. Внутри цилиндра бушевал оптический водоворот, порождавший бесконечность, и я мог часами глядеть, как отражается в самом себе ее зеркало. Так, вероятно, я термос и разбил, случайно уронив на пол. У отца был еще не менее американский и не менее цилиндрический, тоже привезенный из Китая карманный фонарь, у которого скоро сели батарейки, но почти потусторонняя непорочность его блестящего отражателя, намного превосходящая разрешающую способность моего зрачка, завораживала меня чуть ли не до конца моих школьных лет. Впоследствии, когда ободок и кнопка начали покрываться ржавчиной, я разобрал фонарик и с помощью двух увеличительных стекол превратил гладкий цилиндр в абсолютно слепой телескоп. И еще был английский полевой компас, полученный отцом от одного из обреченных британцев, чьи конвои он встречал неподалеку от Мурманска. У компаса был светящийся циферблат, и градусы были видны под одеялом. Поскольку буквы были латинские, слова были похожи на числа, и у меня возникало чувство, что мое местонахождение определялось не просто аккуратно, но абсолютно. Возможно, именно это и делало вышеупомянутое местонахождение непереносимым. И наконец, были еще отцовские армейские зимние ботинки уже не помню, какого происхождения (американского? китайского? точно, что не немецкого). Это были огромные светло-желтые ботинки из оленьей кожи, с подкладкой, напоминающей завитки овечьей шерсти. Они стояли, похожие скорее на пушечные ядра, чем на обувь, по его сторону большой двуспальной кровати, хотя их коричневые шнурки никогда не завязывались, поскольку отец носил их только дома, вместо шлепанцев; на улице они привлекли бы слишком много внимания к себе, а стало быть, и к владельцу. Как и большей части одежды тех лет, обуви полагалось быть черной, темно-серой (сапоги) или, в лучшем случае, коричневой. Полагаю, что вплоть до двадцатых, даже до тридцатых годов Россия обладала неким подобием паритета с Западом в том, что касалось предметов быта и обихода. А потом все пошло прахом. Даже война, заставшая страну в момент замедленного развития, не смогла спасти нас от этого злосчастья. При всем их удобстве, желтые зимние ботинки на наших улицах были абсолютным табу. С другой стороны, это продлило шерстистым чудищам жизнь, и, когда я подрос, они стали поводом частых пререканий между отцом и мной. Через двадцать пять лет после конца войны они были, с нашей точки зрения, еще достаточно хороши, чтобы вести бесконечные споры о том, кому принадлежит право их носить. В конце концов победил отец, потому что, когда он умер, я был слишком далеко от того места, где они стояли.
XV
Из флагов мы предпочитали "Юнион-Джек", из сигаретных марок -- "Кэмел", из спиртного -- джин "Бифитер". Наш выбор, понятно, определялся формой, не содержанием. И все же нас можно простить, ибо знакомство с содержимым вышеупомянутого было неглубоким, поскольку нельзя считать выбором то, что приносят обстоятельства и удача. С другой стороны, по части "Юнион-Джека" и тем более "Кэмела" не так уж мы и опростоволосились. Что касается бутылок "Бифитера", один мой приятель, получив таковую от заезжего иностранца, заметил, что, вероятно, так же как мы приходим в восторг от их замысловатых фирменных наклеек, они заходятся от начисто вакантных наших. Я согласно кивнул. Потом он протянул руку к журнальной кипе и извлек оттуда, если память мне не изменяет, обложку журнала "Лайф". На ней была изображена верхняя палуба авианосца, где-то посреди океана. Матросы в белых робах стояли на палубе, задрав головы, -- наверное, глядели на самолет или вертолет, с которого их фотографировали. Они стояли в построении. С воздуха построение прочитывалось как Е=МС2. "Мило, правда?" -- сказал приятель. "Угу, -- ответил я. -- А где это снято?" "Где-то в Тихом океане, -- ответил он. Какая разница?"
XVI
Давайте выключим свет или крепко зажмурим глаза. Что мы видим? Американский авианосец посреди Тихого океана. А на палубе я -- машу рукой. Или за рулем "ситроена" (2 л. с.). Или -- в желтой корзинке из песни Эллы. И т. д. и т. п. Ибо человек есть то, что он любит. Потому он это и любит, что он есть часть этого. И не только человек -- вещи тоже. Я помню рев, который издала тогда только что открывшаяся, бог знает откуда завезенная американская прачечная-автомат в Ленинграде, когда я бросил в машину свои первые джинсы. В этом реве была радость узнавания -- вся очередь это слышала. Итак, с закрытыми глазами, давайте признаем: что-то было для нас узнаваемым в Западе, в цивилизации -- может быть, даже в большей степени, чем у себя дома. Более того, как выяснилось, мы были готовы заплатить за это чувство узнавания, и заплатить довольно дорого -- всей оставшейся жизнью. Что -- не так мало. Но за меньшую цену это было бы просто блядство. Не говоря о том, что, кроме остававшейся жизни, у нас больше ничего не было.
1986
* Авторизованный перевод с английского А. Сумеркина.
-----------------
Нобелевская лекция
I
Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко -- и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, -- оказаться внезапно на этой трибуне -- большая неловкость и испытание.
Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется, "урби эт орби" с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.
Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое соображение, что -- по причинам прежде всего стилистическим -писатель не может говорить за писателя, особенно -- поэт за поэта; что, окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден, они невольно бы говорили за самих себя, и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость.