Полынь
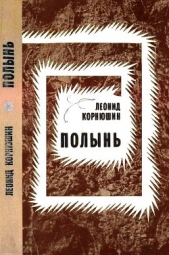
Полынь читать книгу онлайн
В настоящий сборник вошли повести и рассказы Леонида Корнюшина о людях советской деревни, написанные в разные годы. Все эти произведения уже известны читателям, они включались в авторские сборники и публиковались в периодической печати.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Видишь ли, Гриша… По сути, по нутру он, я уверен, и тогда, молодой, такой вот был. Это, брат, так. В десяти котлах вари — не вываришь. На яблони вырубку сделаешь, время пройдет, вроде молодым, зеленым обросло, а ковырнешь — увидишь след выруба. Тем паче в человеке.
— Кто же ему вырубку сделал? — наивно спросил Григорий.
Филипыч, кряхтя, подправил подушку и после молчания сказал:
— Жизнь. Веками она свои зарубки ставила.
— Тогда хочу спросить: как же мы их выведем? Отец мой и помер с этим, так и не переделался.
— Не знаю, Гришка, когда…
Они, думая, помолчали. В стекло снаружи тюкнул носом воробей. Маленький и растрепанный, но живой серый комочек.
Пришел из коридора Битюгин, от него, как от осьмушки, пахло куревом. Он сел на кровать и стал писать последнее за день, девятое письмо. Когда кончил, посмотрел в окно и спросил:
— В шашки играть будете?
— Я не хочу, — сказал Филипыч.
Григорий молча глядел в окно. Там курилась прозрачным голубым дымом, млела под вешним солнцем, заваливалась за горизонт в своей земной горечи сто раз им самим проклятая и все-таки родная и прекрасная степь.
Ночью в больничную крышу били мощные раскаты первого грома. В окнах извилистыми плетями вилась молния, потом хлестнул ливень. В палату сразу вползли освежающая влага и запахи молодой, только-только пробившейся травы и земляных, терпких, как хорошая брага, соков.
Филипыч крепко спал, коротко и нездорово всхрапывал и что-то путаное бормотал во сне. Григорий прислушивался к шуму близкого ливня и к ударам грома и подставлял лицо под форточку, под яростный, все нарастающий клекот дождевой воды.
Битюгин заворочался.
— В конце концов баба просто дура, а то, чего доброго, была пьяная. Стоило ли, Григорий, калечить себя? Баба к тебе даже ни разу не пришла и теперь спит без задних ног. А ты крутись в бинтах и стискивай зубы, — голос Битюгина задрожал, он изо всех сил сдерживал себя, чтоб говорить тихо и не разбудить Филипыча. — Откровенно, Григорий, я не полез бы. Знаешь, Матросов — я понимаю! Или Гастелло, или Туркенич из «Молодой гвардии». А то, извини, ты погибаешь, а баба даже своим детям не расскажет. Ради чего ты пошел на риск?
— Я не думал, ради чего, — тихо и трудно сказал Григорий. — Если бы я раздумывал, ее бы зарезало.
— А попал сам!
— Судьба, значит, моя такая, — горестно обронил он.
— Ерунда! — отмахнулся Битюгин.
— Может быть, — сказал Григорий и неожиданно добавил с большой уверенностью: — А она придет. Просто не знает, где я. Придет!..
Гром ударил в одинокое дерево через дорогу. Белый ослепительный огонь молнии скользнул по стволу, но тотчас потух — только слышался треск разламываемого на части дерева.
— Крепко лупит! — Битюгин встал, выглянул в окно, поежился от сырости, плюхнулся на кровать и тотчас уснул, задышал спокойно и ровно.
«Баба просто дура», — прошептал про себя Григорий слова Битюгина и подумал с завистью: «Вот он заснул, как камень. А я и здоровый дома до полночи ворочался, передумывал разные события дня и намечал, что нужно делать на другой день…»
Ливень и гром не утихали. Григорий представил себе, как преображается сейчас степь. Он чувствовал ее разнородные запахи. В окно было видно ему черное, освещаемое сполохами молний небо. Гром постепенно заглох в однотонной музыке ливня.
Весь в холодном поту, Григорий встрепенулся и замер от дрожи во всем теле.
«Умираю? Нет!.. Ноги горят. Это все у меня от ног», — он повернул голову и услышал спокойное посапывание Битюгина.
Постепенно дрожь унялась. Стихли гроза и ливень. Свежая, ароматная сырость вползала в палату. Небо чуть-чуть серело.
Рассвет все еще только подкрадывался.
Филипыч подсел к Григорию на койку.
— Расскажи, как было, — горячим шепотом попросил Григорий.
— Ты про что? — не понял Филипыч, всматриваясь в осунувшееся лицо парня.
— Про семнадцатый год.
— Ну было!.. — задумчиво и радостно улыбнулся Филипыч.
— Нет, по порядку.
— Да ить много чего было, — Филипыч кашлянул, морщиня лоб, припоминая.
— Ты в каком был полку?
— В 107-м инфантерши.
— А это что — инфантерия?
— Пехота, чудак.
— А, я где-то читал. Ну, расскажи.
— Слушай, Гришка, я, ей-бо, ни беса не помню.
— Что-нибудь-то помнишь?
— Ладно, я про зарубинскую операцию расскажу.
— А где было?
— Под Пермью. Мы тогда к Черному морю пробивались, — Филипыч задумался. — Ночь выпала холоднющая, мы в своих шинеленках жмемся. Костров жечь нельзя. Кругом — поле голое. Сбоку — какие-то сараюшки. А в них как раз банды Золотарева засели. Лежу я и думаю: вот пожрать бы чего — Золотарева, этого белого гада, мы бы расчихвостили… Тут в атаку скомандовали. Я побежал. Да куда! Пулеметы ихние нас прижали, и мы легли. Ни взад, скажи, ни вперед. И тут — я не знаю, откуда она взялась, — вдруг баба с грудным ребенком выскочила. Выскочила, волосы треплются и, главное, кричит что-то. Ну, по ней из пулеметов жарят белые, значит. Я рукав шинеленки зубами прихватил: такое, понимаешь, нашло, что хоть землю гложи. Мы ей кричим: «Ложись!.. К нам ползи, мы свои». А она все к другой, к золотаревской, стороне руки протягивает. Упала. Я шинель скинул, пополз. Ползу, а сам думаю: «Ежели ее убили, то ребенок жив». Действительно, мертвая. А рядом — девочка живая. Взял я ее — и назад. За пазуху посадил, ремнем затянул шинеленку. И сколько я ее потом по окопам таскал, пока отпуск получил!.. Посажу, бывало, под шинеленку, гляжу в ее глазенки чистые, ясные и думаю под звездным небом: боже мой, скрозь какие муки за свою историю прошел народ! Измывались над ним татары, жгли его тевтонцы — псы, секли немцы — управляющие, погибал он в тифозных вшах, мер в голодные годины, гноился несчетно в тюрьмах, пропадал на переселенческих дорогах, в гражданскую войну шел друг на друга, класс на класс, мильонами устлал поля Европы в эту последнюю бойню — и что ж ты думаешь: жив народ! Жив, крепок, незлопамятен, поднялся он к этой своей крепости осознаньем своей силы и правды, какую отстаивает. Греха таить не надо, полаивали его иные: мол, грязноват, темноват… А все ж гордая Европа поставила ему памятники!
— Это она к тебе позавчера приходила? — тихо спросил Григорий.
— Она. Вот я и говорю: бесконечная, брат, жизнь. Как небо, и краю нет. И не потому, что одни помирают, а другие нарождаются. А потому, Гришка, что после себя добро оставляют люди. На добре добро вырастает.
— Зла тоже много, дядя Игнат. Самое поганое — что зло под добро рядится, что раскрыть его совсем не просто, — люди слепцами бывают.
— Ну, много. А оно привитое. Для зла на земле, видишь ли, температура неподходящая.
Григорий с усилием, порывисто сел, отыскал жесткую корявую и теплую руку Игната.
— Дядя Игнат! — Он облизал пересохшие губы и заговорил более резко, прерывисто: — Мое дело конченое… Ты не успокаивай. Я вот здорово это чувствую. А смерти боюсь, жить хочу, понимаешь?
— Хороший переживает злодея — в жизни таких примеров порядочно. Хороший часто живет на сухарях, а дрянь в масле купается, аи глянь — отходную-то споют раньше. Что благо, то истинно, что бито, то дорого, как старички говаривали. Не думай о теле — тело мешок костей, — думай об душе, о людях думай, об их благополучии и счастье, не живи днем, а живи ста днями, не живи животом, а живи духом во имя добра. Прозревший истину людского добра никогда не падет ниц. Не на одежде грязь страшная — в душе.
— Это красные слова, дядя Игнат! А я хочу жить! Неужели каюк? — Григорий изнеможенно упал на подушку, затих, затем он снова сел с невероятным упрямством и неожиданно мягко, ясно рассмеялся — было видно, что тяжелое состояние духа его как бы осветилось солнечным лучом. — Извини. Черт знает… Лежать опостылело. Я никогда не любил безделье.
— Прокляни, малец, это неверие. Это сила еще в тебе не пробудилась, спит она, а ты пробуди, пойми, гляди ясней да греби повыше. В реке вода быстрая, да не всякого сносит, — Филипыч замолчал и отвернулся, должно быть, не желая больше говорить; он судорожно, тяжело дышал.

























