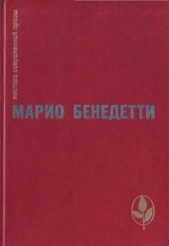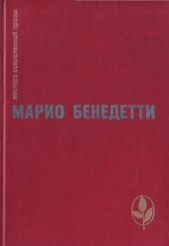Избранное (Передышка. Спасибо за огонек. Весна с отколотым углом. Рассказы)
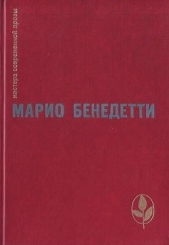
Избранное (Передышка. Спасибо за огонек. Весна с отколотым углом. Рассказы) читать книгу онлайн
Проза крупнейшего уругвайского писателя уже не раз издавалась в нашей стране. В том "Избранного" входят три романа: "Спасибо за огонек", "Передышка", "Весна с отколотым углом" (два последних переводятся на русский язык впервые) - и рассказы.
Творчество Марио Бенедетти отличают глубокий реализм, острая социально-нравственная проблематика и оригинальная манера построения сюжета, позволяющая полнее раскрывать внутренний мир его героев.
Содержание:
В. Земсков. Неокончательное слово Марио Бенедетти
Передышка
Спасибо за огонек
Весна с отколотым углом
Рассказы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не знаю и знать не хочу.
— Правильно. Зачем тебе знать то, что тебя не касается? А я вот знаю. Ничего не поделаешь, так уж случилось. Поверь, приятного тут мало. Это и тяжело, и горько.
— Может, признаться ему, понемногу, из письма в письмо?
— Я и сама об этом думала. Нет, не смогу, очень страшно.
— Страшно? Почему?
— Боюсь, что он рухнет. Или я рухну. Не знаю.
ВЗАПЕРТИ (Как дополнить самого себя)
Когда я получаю письмо от тебя, я словно открываю окно. Ты столько рассказываешь о себе, о Беатрис, о Старике, о работе, о городе. Я вижу вашу жизнь, час за часом, и в любой момент могу представить: сейчас Грасиела печатает на машинке, а сейчас Старик ждет звонка, а сейчас Беатрис завтракает и сердится, потому что опаздывает в школу. Когда ты приговорен к неподвижности, очень хорошо шевелить не столько даже мозгами, сколько воображением. Можно вместить в настоящее все, что пожелаешь, или, очертя голову, ринуться в будущее, или податься в прошлое, но этого лучше не делать, потому что там — воспоминания, всякие: хорошие, средние и мерзкие. Там — любовь, то есть ты, и крепкая дружба, и низкое предательство. Там — все, чего я не сделал, хотя сделать мог, и все, что я сделал, хотя мог не делать. Там перекресток, где я выбрал неверную дорогу. Там начинается другой фильм — о том, что было бы, если бы я выбрал верную. Посмотрев ролика три, я выключаю проектор и думаю, что выбрал не так уж плохо. Может быть, окажись я на том перекрестке, я бы снова пошел туда же. Не совсем так же, конечно, но туда. Не так простодушно, не так спокойно, не так уверенно, но в том же направлении. Когда из жизни выпадает столько лет, это очень тяжело, а все-таки, в определенном смысле, это неплохо. Перед самой тюрьмой и даже раньше я совсем замотался, спешил, жил в постоянном напряжении, мне вечно приходилось что-то решать, у меня не хватало ни духу, ни времени, чтобы поразмыслить, подумать как следует, что же мы делаем, увидеть себя и других. Теперь у меня время есть, куда уж больше, и бессонных ночей хватает, и страшных снов, и призраков, всегда одних и тех же. Естественно, хотя и невесело, думать о том, зачем мне это время, зачем запоздалые, неуместные, бесполезные размышления. Однако зачем-то они нужны. Пустое время хорошо тем, что ты можешь обрести зрелость, понять свои пределы, слабости, силу, лучше увидеть правду о себе и потому, не ставя невыполнимых, мнимых целей, укреплять дух, упражняться в терпении, чтобы успешно совершить то, что когда-то выпадет сделать. В этих более чем странных условиях так привыкаешь во все вникать, что я решусь тебе признаться: хотя я и не могу составить пятилетний план кошмаров, я вполне способен по плану, по главам видеть сны наяву. Так я разбираю дотошней дотошного, что я хотел, любил, делал раньше, что хочу и люблю теперь, что буду делать. Ведь рано или поздно я снова смогу Что-то делать, как ты думаешь? Когда-нибудь я ведь выйду отсюда и снова стану жить в миру. Я стану другим, наверное — стану лучше, но я не возненавижу того, каким я был, скорее — я его дополню. Да, когда я получаю письмо от тебя, я словно открываю окно, но тогда мне очень хочется открыть и другие окна, хуже того — как это ни глупо, мне хочется открыть дверь. Но меня приговорили смотреть на внутреннюю сторону этой двери, на ее жестокую, неумолимую, крепкую спину, хотя добрый довод и здравый разум все же будут покрепче. Твое письмо — как окно, однако дверь еще заперта. Наверное, я слишком много раз повторил это слово — «дверь», но ты пойми, здесь оно — как наваждение. Не поверишь, оно для нас хуже, чем слово «решетка». Решетки — тут, они вполне реальны, мы их понимаем, мы привыкли к их дурацкой силе. Но они не станут ничем другим. Открытых решеток нет. Зато дверь… какой только она не бывает! Когда она закрыта (а она закрыта всегда) — это неволя, насилие, одиночество, злость. Если же она откроется (не для прогулки, и не для работы, и не для дезинфекции — это она все равно закрыта, — а туда, в мир), мы снова обретем настоящую жизнь, любимых людей, улицы, запахи, звуки, мы будем вкушать, видеть, ощущать свободу. Скажем, я обрету тебя, твои руки, губы, волосы — но стоит ли тщетно взламывать замок? Как бы то ни было, слово «дверь» тут в большом ходу, оно больше всех слов, которые ждут нас за дверью, потому что мы знаем: чтобы их обрести, чтобы снова сказать «жена», «сын», «друг», «улица», «кровать», «кофе», «книги», «площадь», «стадион», «пляж», «порт», «телефон», надо преодолеть это, главное слово. А дверь повернулась к нам железной, жестокой, непрошибаемой спиной, ничего не обещая, не подавая надежды, словно она замурована раз и навсегда. Однако мы не сдаемся, мы боремся с ней, пишем письма, думая одновременно и о цензоре, и об адресате, или измышляем письма посмелее, привычно одергивая самих себя, или жуем нескончаемые монологи, как этот, к примеру, который, быть может, не дойдет ни до бумаги, ни до конца. Самое главное, самое лучшее в этой борьбе — то, что мы даем себе обещания, мы надеемся (не на какие-то мнимые триумфы, а на те простые, строгие вещи, которые вполне возможны), мы представляем, как дверь открывают перед нами. Иногда, довольно редко, мы играем в карты или в шахматы. А вот в будущее мы играем часто, и в этой азартной игре порой плутуем или обдумываем матовую комбинацию, которую приберегаем для особых случаев, скажем для матча с Капабланкой или с Алехиным, хотя и не с Карповым, ведь он как — никак существует на самом деле. Кроме того, мы говорим о музыке и музыкантах, пока меня или моего товарища не уведут с музыкой кое-куда. Но и один, и с кем угодно я могу вспоминать, например, каких знаменитостей я видел. Когда уж совсем одиноко, я рассказываю себе, что видел в Солисе самого Шевалье, совсем старичком, но еще в форме, и он был так мил, что притворялся, будто сочиняет у нас на глазах свои доисторические шутки. Еще я видел Луи Армстронга и могу хоть сейчас услышать его задушевный, хриплый голос. Видел я и Шарля Тренэ в каком-то испанском заведении на улице Сориано. Все сидели на стульях, как в столовой, а мы, метисы, сидели на полу, а сам француз, довольно жеманный, но шустрый, пел нам песни, которые — я много позже узнал — называются «La mer» и «Bonsoir, jolie madame» [206]. Видел я и Мариан Андерсон, не помню, в Содре или в Солисе, но помню прекрасно, как она, такая огромная и милая, стоит на сцене, словно бы наперекор трагической гибели своей расы. А много позже я видел Роб-Грийе, который очень связно объяснил, что в «Постороннем», у Камю, употребление прошедшего времени важнее, чем сюжет; и Мерседес Coca, которая пела одна, почти тайно, у Житловского на улице Дурасно; и Роа Бастоса (вот он и впрямь скромен), который говорил постыдно малочисленной публике, что Парагвай живет, как жил, в нулевом году; и дона Эсекиэля Мартинеса Эстраду [207], лекцию он читал за несколько месяцев до смерти, о чем — не помню, потому что все время думал, какое у него желтое, изможденное лицо, только глаза острые и живые; и Нефтали Рикардо Рейеса [208], который тонко, остроумно, поэтично, чуть рисуясь, рассказывал — не распевал, как псалом, — свои воспоминания об Исла-Негра [209]; наконец, я видел человека с одного большого острова, затерявшись среди народа, который просто кипел и дрожал на этом длинном, ярком, неповторимом представлении, приятном отнюдь не для всех. Одних я видел в юности, других — в молодости, третьих — уже взрослым, и все эти воспоминания — мои, так что, когда занавес поднимается, на сцене очень интересно, и я аплодирую самому себе и кричу: «Браво! Бис!»
В ИЗГНАНИИ (Человек в подъезде)
С доктором Силесом Суасо [210] я познакомился в Монтевидео лет эдак двадцать назад, он жил тогда в эмиграции (в те времена говорили не «эмигрант», а «высланный») и приехал в Уругвай после одного из многочисленных военных переворотов, что издавна пятнают историю Боливии. Я еще мало печатался, работал бухгалтером в большой компании по продаже недвижимости.