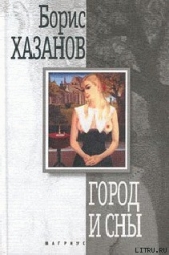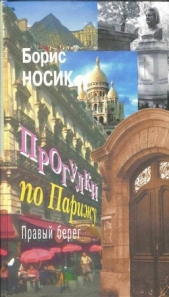Дорога долгая легка (сборник)

Дорога долгая легка (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Утром, до завтрака, Зенкович вышел на улицу и огляделся. Ни души. Деревня то ли еще спала, то ли окончательно вымерла. И то и другое вполне устраивало Зенковича. Он решил, что останется здесь надолго, будет бродить по лесам, греться в стогу на солнышке, дремать перед идиотским телевизором, читать, переводить – будет жить, пока не залечатся раны и скука не вытеснит недавнюю боль.
На завтрак Лелька наварила ему картошки, принесла банку молока – о чем еще мечтать? Потом Зенкович спустился по косогору, прошел задами и углубился в лес. Дорога вела на Харламово. По ней только изредка, раза два в день, проходили машины с центральной усадьбы, но пешие, видно, здесь не ходили вовсе, потому что на орешинах у самой дороги он увидел нетронутые, уже зажелтевшие орехи. Дорога вела круто вниз, а потом так же круто взбиралась в гору, по сторонам были мрак и тишина нетронутого леса. Зенковичу вспоминалась отчего-то песня, слышанная здесь еще в тот самый первый его приезд:
Эх, самогоночки не стало,
Нам пьяным больше не бывать,
В лесу я вырою землянку,
В ней самогонку буду гнать,
А кто навстречу попадется,
Того я буду убивать…
Дикие, ни на что не похожие песни пели здесь. Оттого они и запомнились Зенковичу, были частью именно этого воспоминания, принадлежностью этих мест. Он вспомнил, что страхолюдная бабка, которая вчера подобрала его посреди села и отвела к Лельке, звалась Варварою. Зенкович наконец вспомнил ее, даже не ее, а песню, которую про нее пели:
Варвара в люлечке качалась,
Варвара маненька была.
Варвара выросла большая
И на бульвар гулять пошла.
Дальше, конечно, матерщинно, все на тот же Московской области примитивный мотив, но со строками неожиданно хлесткими и поэтичными:
Варвара ноги задирала выше крыши,
Хотела месяц обосрать…
И еще дальше, из диалога Варвары с неким ебарем, подобранным в городе на бульваре:
Ах, что ты, что ты, милый мальчик,
Нельзя тебе задаром дать.
Ну не прелесть ли эта изящная песенка про Варвару или, к примеру, та песенка про Яшу-пастуха, которую пели по вечерам на пятачке ребята, до тех пор пели, пока девки, осердившись, не уходили прочь:
Девки наши, дайте Яше,
Дайте Яше запереть.
Если Яше не давать,
Яша может умереть…
И еще голосили вслед девкам – подумаешь, недотроги:
Пускай ебут военные, хуями здоровенными. Хуяк!
А потом с повинной догоняли девок на дороге и заводили им в угоду все на тот же мотив (на него ведь пели и про героев-панфиловцев, и про «поебанный канал»):
Люблю я розу полевую,
Люблю фиалку у ручья…
Подвывали, подсюсюкивали девкам:
А вы ребята молодые, паразиты,
У вас холодные сердца:
Вы девок любите словами —
Душой и сердцем никогда!
Конечно, смирения хватало ненадолго, так что уже после пристойного «словами» кто-нибудь из парней вставлял куда менее пристойное «и хуями» – Зенкович отлично помнил, как ему это нравилось, как этот грубоватый юмор сливался в его душе с местечковым наследием отцов и дедов, закладывал основу, на которую благодатным дождем пролились позднее чувствительный Генри Миллер, утонченный Набоков вместе со всеми американскими Хеллерами и Ротами, – о моя лубяная, берестяная, телевизорная, посконная, кондовая, доныне еще бескондомная русская деревня, моя любовь, моя Хиросима, Нагасаки моя вымирающая!
…Впереди на горке показалась крайняя изба деревушки. Зенкович забыл за эти годы, какое оно, ближнее Харламово, и теперь ждал, пока деревушка станет видна полностью. Она была удивительная. Стояла она в стороне от дороги, метров так за сто – всего один порядок домов, изб восемь, за ними – яблоневый сад, а перед ними – проселочек, плетни, огороды, небольшой кусок поля и снова лес. А посреди дороги – колодец под рябинами, да одна крашеная скамеечка под липой, да безлюдье полное – видать, от сентября до самого июля в трех избах всего и были жихари. Зенкович не удержался, зашел в одну избушечку выпить молока и потолковать. Старенькая хозяйка представилась ему как Татьяна Николаевна Оболенская, впрочем, в этом не было гордыни, потому что, кроме тех, что в Харламове, где все были Оболенские, она никаких других Оболенских не знала и никаких новомодных амбиций с этим родом не связывала, Зенкович же припомнил, что было тут невдалеке при шоссе родовое гнездо князей Оболенских с остатками заплеванного и засранного парка, так что харламовские Оболенские, видно, и происходили из тамошней дворни. Впрочем, Татьяна Николаевна Оболенская при своей нищете была так гостеприимна, что не посрамила бы и самого княжеского дома. Она признала происхождение Зенковича и его наследственное право на эти места, потому что хорошо помнила старика Архипова, Мое Почтеньице, он еще в бытность свою лесником, когда ж это было – кажись, в войну и было, – нанимал ее на работу, угли выжигать в лесу…
– Стало быть, оттель ты, из Карцева, так ты и у нас, должно, бывал, тут совсем недалече, твоя-то деревня…
– Да, моя деревня, – повторял Зенкович, запивая привычные сладкие слова парным молоком.
Он и впрямь уже не один десяток лет говорил так в Москве друзьям:
– На праздники поеду в свою деревню…
В ту пору еще, впрочем, не принято было гордиться ни той деревней, из которой ты родом, ни той, которой якобы твои предки владели, ни той, в которой ты по дешевке, за сотню-полторы, купил выморочную избу, это все пришло позднее, с подъемом национального духа, в разгаре не то пятой, не то девятой пятилетки.
– На праздники поеду в свою деревню…
И они приезжали, вернее, приходили пешком через лес, за пятнадцать километров от станции, а в рюкзаках у них было спиртное, и дешевые конфеты, и сушки-баранки, и сахар, и селедка… Шли вдвоем-втроем, иногда собирали большую компанию, и вел их Зенкович, хотя, честно сказать, проводник он был неважнецкий. Не раз случалось, что они теряли дорогу на каком-нибудь из бесчисленных развилков в лесу. Однажды под ноябрьские они шли чуть не до полуночи и вышли не к себе в деревню, а в Маринино. Там уже все были сильно поддавши по случаю наступавшего праздника, и председатель разместил их в артельном девчачьем общежитии: девки разъехались на праздники по своим деревням. Москвичи затопили печку, развесили носки на сушку, выпили по стакану водки и сильно захмелели с непривычки и усталости. Они все смеялись над маленьким доктором Витей, который смазывал ружье, готовясь к предстоящей охоте.
– Еврей-охотник! – пьяно гоготали они. – Еврей-егерь! Еврей-гусар! Лейб-гусар! Лейба-гусар!
Витя добродушно отмахивался и пил больше дозволенного. А потом произошло нечто безобразное. Окно раскололось со звоном. В квадрате света за разбитым окном они увидели, что какой-то пьяный парень выламывает кол из плетня. Зенкович первый понял, что им грозит, потому что он уже видел однажды на Ильин день в этих местах такую потасовку. Позднее они сообразили, что деревенские парни пришли к своим зазнобам в общежитие и через окно увидели пирующих студентов. Однако еще до того, как они разобрались, в чем дело, до москвичей дошло, что дела их плохи. Положение неожиданно спас маленький охотник Витя (он так и не застрелил за свою жизнь никакой дичи, только смазывал ружье), который был почти так же пьян, как деревенские кавалеры. Он вставил затвор в смазанное ружье, забил заряд и выскочил на крыльцо. В него швырнули палкой, но не попали, а он молча, сосредоточенно целился. После первого выстрела деревенские парни обратились в бегство. Но Витя продолжал стрелять. К счастью, он так ни в кого и не попал. Но деревенские бежали, наверное, еще долго. Потом Витя вернулся в избу и уснул в обнимку со своим ружьем. Назавтра Зенкович все-таки привел их в свою деревню. Мое Почтеньице был счастлив. Он наварил бражки. А Манька с подругами устроили «домовник» – складчину в чьей-то избе; на столе стояло множество бутылок и бутылочек разного цвета: чувствовалось, что самогон в каждом доме гонят свой и подкрашивают чем Бог на душу положит. Выпив и поев, они разбрелись провожать девок, все, кроме Юры, который демонстративно ушел спать. Гвардеец Витя даже ухитрился трахнуть на столе в пустой школе перезрелую местную учительницу. А наутро сокурсник Юра водил Зенковича по осеннему полю и объяснял ему, как отвратительно было их вчерашнее вожделение, их интерес к этим мерзким, этим толстым девкам… Зенкович тер лоб – голова у него просто раскалывалась с похмелья от этих экзотических сортов самогона – и пытался осознать, что это и впрямь было отвратительно, недостойно будущих интеллигентов (он подумал, что и сейчас, в сорок, еще делает на себя ставку как на будущего интеллигента; настоящими интеллигентами они, кажется, так и не стали, ни один из них). Впрочем, тогда Зенкович не смог вспомнить, чтобы это было уж так отвратительно, ну да, учительница была чуток старовата («А как они отвратительно плясали и кричали свои частушки, ожидая совокупления!» – патетически восклицал Юра на просторном косогоре, близ черно-золотого осеннего леса), но остальные… В тот вечер Зенкович впервые провожал Гальку. Он не надеялся ни на что… Она очень смешно целовалась, и она позволила ему, неумелому девственнику, залезть к ней под кофту, Боже, что это была за ночь! Позднее, через много лет, когда Юра, а потом и Зенкович осознали, что собственные Юрины устремления носят характер исключительно гомосексуальный, Зенкович не раз возвращался в мыслях к этому разговору на осеннем косогоре. Он пытался обуздать этим воспоминанием свое собственное отвращение к алкоголикам, к пьянству, к запаху водки. «Бывает ведь такое же непримиримое отношение к бабнику, справедливо ли это?» – спрашивал себя молодой Зенкович. Он хотел быть справедливым. И в душе сознавал, что, скорей всего, да, справедливо. И тот и другой одинаково отвратительны для нормального человека. Но Боже, как их мало вокруг, этих нормальных людей. Сам он так никогда и не сподобился попасть в их число… Праздники в опустевшей послевоенной деревне. «А к Архиповым студенты приехали. Молодые черти, веселые. И с ними две девки в штанах». Это уже было позднее, на майские. Они тогда приехали огромной компанией и никого своих не застали дома. Кто-то был чужой, да, хроменькая Верка Кулагина хозяйничала одна. Она и сказала, что Мое Почтеньице с тетей Настей ушли на Яхрому (отчего же он прижился тут, этот предлог «на», может, из-за реки Яхромы, а может, занесли с Украины). Ушли в больницу – Манька помирает.