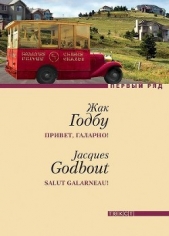Привет, Афиноген

Привет, Афиноген читать книгу онлайн
«Привет, Афиноген» писателя Анатолия Афанасьева — остросовременный «городской» роман.
Его герои — работники большого подмосковного предприятия, которые живут ожиданием реформы — реорганизации одного из отделов НИИ, увольнения по возрасту руководителя отстающего отдела.
Главная идея повествования — и в наше бурное время эпохи научно-технической революции, в сложных переплетениях производства и науки, главной и нетленной ценностью остается советский человек, его нравственность, его устремленность и творческая энергия.
В романе автор создает полнокровные, живые образы наших современников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Побудь до врачей, Акимовна, — сказал Геку- бэв, — поплачь, это ничего. Я, пожалуй, пойду. Мочи нег оставаться. У меня всегда, когда я покойников встречаю, в груди жмет.
На улице Гекубова окружили любопытные соседи. Слух о смерти Верховодова быстро распространился. Управдома затормошили, задергали.
— Умер точно, — зычно объявлял он всем. — Живет сначала человек, потом умирает.
Ему хотелось, но никак не удавалось до конца додумать одну неприятную заполошную мысль, которая не первый раз приходила ему в голову. Злодейская эта мысль имела свойаво нагрянуть в самую неподходящую минуту и чаще всего разгоралась, когда он прихварывал. «Значит, что же, — ворошилась мысль, — все, значит, так просто и обыкновенно. Не только для меня лично это пустое, а вот для этого изумительно сконструированного организма, который спит, икает, распоряжается. Как это несправедливо».
Сложность мысли для полного додумывания была в том, что начало у нее имелось самое простое — необходимость для каждого человека умереть; середина, перечисление всевозможных утрат, которые принесет смерть, затягивалась до бесконечности, распирала мысль словно резиновую — поэтому конец ее, логическое завершение и оправдание мысли никак Гекубову не давались. Илларион Пименович и в общих чертах не мог предположить, какой конец он хотел найти для тягостной мысли о бренности бытия, но не сомневался, что обязательно есть нечто утешительное, предназначенное только ему и никому другому.
В комнате Верховодова под вой старухи Акимовны он почти ухватил что–то, почти обрадовался проклюнувшейся, дернувшей его за нос догадке, но опять в последний момент прозрения отвлекся и упустил удачу. Когда же сосредоточился, было поздно, в голове мельтешила одна только прозаическая не мысль даже, а мыслишка: «Ну вот, товарищ освободил отдельную квартиру». И тут же он стал прикидывать, кто из его знакомых может претендовать на жилплощадь Верховодова. Грешным делом вспомнил своего двоюродного племянника, недавно приходившего к нему со слезной мольбой и грозившего в случае отказа наложить на себя руки прямо в домоуправлении…
Пионер Вадик сидел на диване и листал свежий номер «Крокодила».
— Мама, — сказал он, — знаешь, дядька ему веки опустил, а они как щелкнут. Страшно!
— Нечего тебе было туда соваться. Сейчас пойду бабушку приведу. С ее ли сердцем там высиживать.
— Мама, неужели люди всегда будут умирать?
— Не говори глупостей, сынок. Не маленький.
Слесарь Юрий Печенкин помогал санитарам. Верховодова завернули в простыни и понесли втроем. Печенкин поддерживал ноги. Они были мягкие и продавливались ему на руки.
«Ах ты хлюпик, — ругал себя студент–заочник, — «сколько же в тебе слизи. Не годишься ты, брат, на крупные дела. Одинокий старик умер, а тебе противно его нести. Тебе, гаду, тошно. Порядочная ты, оказывается, мразь, Юрик. Недаром тебя красивые девушки старательно избегают. Слесарь–недотепа, дверь не су* мел отпереть».
Они загрузили Верховодова в санитарную машину, никто не сказал Печенкину «спасибо», никто не кивнул на прощание.
«Газик» зафыркал и укатил.
«Больше старик домой не вернется, — подумал студент. — Окончен бал. Прощай, человек».
В квартире Верховодова остались Федор Мечетин и старуха Акимовна. Они перешли на кухню. Акимовна утирала уже не текущие слезы, а Мечетин пил из кружки настойку, обнаруженную им на кухонной полке.
— Выпей, Акимовна, за упокой, — предложил Мечетин. — С глотка плохо тебе не станет.
— Господь с тобой! Я этого зелья на дух не выношу,
— Что так?
— Пили вокруг меня много, всю мою жизнь вино коверкало. Муж пил, братья пили — себя и здоровье пропивали. Я бы ее всю в океан вылила, разом всю, сколь ее ни есть на свете.
— Да, женщины много обид на вино держат.
— Он, Петр Иннокентьевич, не пил и человеком прожил.
— Хорошего человека, Акимовна, вино не ломает, крепче на ноги ставит.
— Неправда ваша. Никому она не на пользу. Только деньги на нее зря переводят. Я все гадаю, старая дура, почему бы ее враз не отменить, не продавать ее и не делать. На бумаге борются с ней, а в любом магазине — хошь залейся. Невыгодно, наверное, кому–то ее совсем изгнать.
— То–то что невыгодно. Да и пробовали уже запрещать. В Америке. Привыкли людишки пить. Без вина уже не могут. Отмени водку государство — будут самогон жрать.
— Чего ж в ней хорошего–то есть, в проклятой?
— Вино приносит забвение, Акимовна. Этого женщины не разумеют.
— От чего забвение–то? От какой холеры, что ли? Бог дал жисть, чтобы ею радоваться, а не забывать ее. Вон, смерть пришла к Петру Иннокентьевичу, он и забыл все, и солнышко для него померкло, и ночной покой ему недоступен. Пьяницы–то каждый божий день умирают. Зачем это надо? Нальют бельмы и ходят, озираются, всех задевают.
— Я и говорю, что женщины не разумеют. От слабости, конечно, пьет человек, от горькой слабости. Разум его вверх манит, к золотой мечте, а слабость к земле гнет, давит. Противоречие!
— Женщины, видно, обижали тебя?
— Кто только меня не обижал, Акимовна. — Ме- четин вздохнул, долил в кружку. — Да я и сам многих обидел. Жена моя — хорошая, добрая женщина, какое ей счастье всю–то жизнь со мной маяться. И ее я обижал крепче других. Под рукой была. Молодой ревновал — поколачивал. Один раз вечером где–то она задержалась. Может, у подруги. Я ее встретил у дома и, ни слова не молвя, — раз в ухо. Она пала на тротуар, лежит. Меня бесы дерут, жду, когда встанет, чтобы вдругорядь ей приварить. Я ведь уверен — от любовника она спешит. Встала, лицо в крови, но не плачет, просит: «Феденька, прости, не виновата!» — «Не виновата, за что прощать?» — «Не знаю, прости, за что бьешь». Было, было! Буянил, дрался, переворачивался вверх дном. Теперь самому впору прощенья просить. А у кого? Кто меня теперь поддержит.
— У бога проси, он помилует.
— Так нету его, Акимовна. Раньше был, а нынче его как раз и отменили. Водку оставили, бога отменили. Забавно.
— Бога нельзя отменить… Я по глазам твоим вижу, тяжко тебе, а бог и у те–бя есть. Не отрицай его понапрасну.
— С покойником мы часто об этом толковали. До конца жаль не договорили, не успели. Что ж, Акимовна, плачешь ты о нем, а ведь он бога не признавал. Его бог — револьвер да трибунное слово. Чего ж так жалеешь об нем?
— Хороший человек Петр Иннокентьевич, вечная ему память. Он бога не признавал, а бог сам его нашел и в нем пребывал, Это умом не осилить. Кто с душой живет, тот и с богом. Мы, старушки, в церкву ходим, так и то не все с богом в ладу. Некоторые ух злые какие ведьмы. Они бога обмишуливают и надеются, что обман ихний ему неведом. Хитростью, тайной злобой живут, хуже пьяниц. Я их боюсь. Петра Иннокентьевича никто не боялся, ни дети, ни женщины. Хоть он, пущай, как ты скажешь, с револьвером. Все одно, не страшный. Вот тут тебе и есть бог, ежели возле человека страха нет, лишь покой и приветливость.
— И во мне ты бога видишь?
— Вижу, да.
— Ну спасибо, старая, утешила. Было я уж забеспокоился.
П. И. Верховодов — прощай, прощай, прощай!
6
Годы быстро проходят, они не меняют нас. Я и теперь, когда мне далеко за тридцать, такой же, как и прежде, как в десять лет, как в двадцать, как в двадцать пять. Только иногда мне чудится, что я зажился на свете и мнобое стало скучно, и — нелепое свойство ума — то, что скучно, жалко до слез терять.
В двадцать лет я был гением, великие перспективы ожидали меня. Кто я теперь? Пролетарий умственного труда, один из многих, а имя нам — легион.
Переходить из гениев в рядовые работники — тоже самое, что переселиться из светлого дворца в подвальное помещение без туалета.
Мое поколение, во всяком случае большинство из тех, кого я хорошо знал, в том числе и Афиноген Данилов, привыкли обо всем рассуждать с солидной долей иронии и некоторого скепсиса. Мы часто норовим поиздеваться над тем, что боготворим, и над теми, кого любим. Издевательства потом всегда обращаются против нас. Расплата за все дурное, что мы делаем и говорим, неизбежна, это закон, которому мы все болезненно подчиняемся, хотя трудно сразу поверить в существование такого неписаного закона.