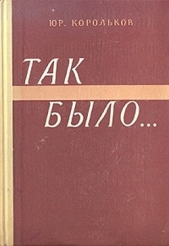Странствия

Странствия читать книгу онлайн
Иегуди Менухин стал гражданином мира еще до своего появления на свет. Родился он в Штатах 22 апреля 1916 года, объездил всю планету, много лет жил в Англии и умер 12 марта 1999 года в Берлине. Между этими двумя датами пролег долгий, удивительный и достойный восхищения жизненный путь великого музыканта и еще более великого человека.
В семь лет он потряс публику, блестяще выступив с “Испанской симфонией” Лало в сопровождении симфонического оркестра. К середине века Иегуди Менухин уже прославился как один из главных скрипачей мира. Его карьера отмечена плодотворным сотрудничеством с выдающимися композиторами и музыкантами, такими как Джордже Энеску, Бела Барток, сэр Эдвард Элгар, Пабло Казальс, индийский ситарист Рави Шанкар. В 1965 году Менухин был возведен королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство и стал сэром Иегуди, а впоследствии — лордом. Основатель двух знаменитых международных фестивалей — Гштадского в Швейцарии и Батского в Англии, — председатель Международного музыкального совета и посол доброй воли ЮНЕСКО, Менухин стремился доказать, что музыка может служить универсальным языком общения для всех народов и культур.
Иегуди Менухин был наделен и незаурядным писательским талантом. “Странствия” — это история исполина современного искусства, и вместе с тем панорама минувшего столетия, увиденная глазами миротворца и неутомимого борца за справедливость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Почему же я не купил ее или другую подобную? Действительно, “Страды” у меня были собственные, а “Гварнери” я брал напрокат. Здесь сочетались жажда самоутверждения и опасение, что если я не буду это делать во славу Мастера, то начну “выезжать” за его счет — совсем как в том детском сне про две скрипки, в котором Крейслер протянул мне свою “Гварнери”, но при этом сохранил ее. (В конце жизни он завещал ее Библиотеке Конгресса, и это обстоятельство дало мне возможность поиграть на ней несколько лет назад.) В тот месяц, когда родилась Замира, моя первая жена подарила мне прекрасного “Гварнери” 1742 года. Я редко играл на нем и через несколько лет передал своему первому протеже, Альберто Лиси; он и пользовался инструментом все эти долгие годы.
Когда мне было лет пятьдесят, я начал присматривать себе подходящего “Гварнери” из каталога Хилла. Скрипки, принадлежавшей Коханьскому, которую я всегда обожал, не было в продаже; моим вниманием завладела другая — “Граф Д’Эгвиль”, принадлежавшая коллекционеру из Брауншвейга. При первой возможности я сел в самолет и отправился в Германию. Вероятно, кто-то удивится, что человек, имеющий двух “Страдов” и “Гварнери”, так разволновался от перспективы поиграть на другом великом инструменте восемнадцатого века, а кто-то, наверно, посчитает странным, что я до сих пор не признался в желании завести гарем! Инструменты всегда попадали ко мне по воле случая или в знак расположения, мне их дарили или давали напрокат — все, кроме “Суа”. Но я скорее приобрел бы “Страд”, нежели “Гварнери”, будучи уверен: владея таким инструментом, ты сам будешь принадлежать ему; инструмент еще и накажет тебя за греховную гордость обладания им. Я взял напрокат “Д’Эгвиль” и с увлечением играл на нем восемнадцать месяцев, а потом возвратил владельцу. Наконец, в 1971 году я нашел необыкновенно красивую скрипку Гварнери, принадлежавшую кузине Шарля Мюнша, мадемуазель Эберсхольт — она получила ее от отца в 1880 году в пятнадцатилетием возрасте. Через год я купил этот инструмент.
На мой взгляд, все деревянные вещи живут собственной жизнью и потому нуждаются в соответствующем уходе. Мне нравится быть окруженным симпатичными лицами стульев, шкафчиков и деревянных панелей, и я чувствую себя одиноко среди медицинской анонимности современного интерьера. Мои скрипки сами определяют собственное будущее, они требуют с моей стороны чувства ответственности, привязанности и заботы. (Кто проявляет привязанность к фортепиано? Можно ли обнимать его, носить на руках и укладывать спать, закутав в шелк и бархат?) Сейчас за моими скрипками следит Питер Биддалф, но я сам чищу их и придаю им надлежащий блеск средствами от Этьена Ватло из Парижа, который также несет ответственность за их ремонт, вместе с Чарльзом Биром и знаменитой лондонской фирмой “Хилл и сыновья”. Я ставлю на них немецкие струны “Пирастро”, а в Америке — “Каплан”, которые хорошо соответствуют климату. Столь модным ныне цельнометаллическим струнам — звонким, блестящим, надежным, практичным во всех дурных смыслах этого слова и создающим болезненное напряжение — я предпочитаю компромисс: струны с металлической обмоткой на жильной основе; временами я обращаюсь к чисто жильным струнам, которые, я уверен, имели в виду Страдивари и Гварнери, делая свои инструменты. Что же ныне определяет для меня выбор той или иной скрипки? Это результат нашего с ними безмолвного разговора, суть которого лежит столь глубоко, что ее не выразить ни словами, ни музыкой. Каждому инструменту нужен период отдыха, после которого мы должны знакомиться заново. Нужно несколько недель, чтобы снова привыкнуть друг к другу.
Естественный отбор подчас ставит предел честолюбивым амбициям. Я полагаю, что муравьи, эти бесчисленные неунывающие существа, сформировавшись, вовсе не заботились о том, чтобы эволюционировать еще много миллионов лет. Так же и с изготовлением скрипок: в восемнадцатом веке оно достигло апогея; изменения могли вести лишь к упадку. Но со времен своего возникновения в Средние века и до обретения совершенства в Кремоне скрипка процветала в тысяче более грубых обличий. Ей предстояло завоевать общественное признание и войти в придворный обиход, чтобы достичь нового статуса; ей предстояло научиться дисциплине в камерных ансамблях и симфонических оркестрах. Но она пережила все эти изменения, оставшись ведущим сольным инструментом, достаточно субъективным, чтобы быть значимым, и достаточно анонимным, чтобы быть универсальным, мобильным, подобно человеку, который возил ее с собой с места на место, из концертного зала в оперный театр. Поколения музыкантов создали традицию, к которой принадлежу и я; и те из них, кто не были цыганами, были евреями.
Русско-еврейская монополия в скрипичном искусстве ныне не столь всеобъемлюща, как восемьдесят лет назад. Тогда каждый более-менее музыкальный еврейский ребенок из России буквально обречен был стать скрипачом. На случай, если кому-то это наблюдение покажется печальным: я все же считаю, что мне с обстоятельствами рождения повезло. Благодарю судьбу, которая оградила меня от фортепиано и позволила всю жизнь держать в объятиях “Страд”. В нашем доме с самого моего появления на свет имелось пианино Mathushek, на котором моя мать, будучи в соответствующем настроении, наигрывала известный шопеновский Вальс до-диез минор — пианино было единственным предметом, который мои родители перевезли в Сан-Франциско из Нью-Джерси. Позднее дома появился рояль Mason & Hamlin, затем еще один, чтобы на них занимались сестры. Но ни один из этих инструментов не заставил меня усомниться в скрипке, и на фортепианные концерты мы всей семьей не ходили. При этом посещать концерты Яши Хейфеца, Миши Эльмана, Тоши Зейделя, Фрица Крейслера, Джордже Энеску было для нас так же естественно, как дышать. Человек, носящий с собой свой голос, устанавливает со слушателями более романтические и обостренные отношения, нежели те, что доступны пианисту. Стал бы я судить иначе, проведя жизнь за клавиатурой? Не думаю. Фортепиано говорит многими голосами, скрипка — одним, но история доказала, что слово, сказанное одним для многих и от имени многих, более действенно, чем любые коллективные решения, сколь бы гармоничными они ни были.
Удивительно, но уродливые скрипачи женятся на красивых женщинах. Это правило действует не всегда, ведь четкие суждения, как и сравнения, неприменимы в отношении собственных коллег и других ближних. Но, не слишком заботясь о доказательствах, смею утверждать: у уродливых скрипачей бывают красивые жены, более того, это является свидетельством присущего скрипачам магнетизма, коего лишены другие смертные. Обычно скрипач более чувственен, нежели интеллектуален, обладает довольно узким кругозором и, пожалуй, бывает тщеславен. Он гордится извлеченным звуком, как его красивая жена своей внешностью; и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы эта гордость перерастала в самодовольство. Он романтик — в том смысле, что его переполняют чувства, но ошибочно было бы (согласно распространенному мнению) считать его олицетворением импульсивности и свободы. Напротив, он, как лошадь, прикован к мельнице своего ремесла. Неисчислимые часы труда дают лишь скудное удовлетворение, которое — если он играет хорошо — сохраняется на протяжении концерта, но иссякает к началу аплодисментов. Учитывая, что большая часть человечества проводит дни, крутя ту или иную мельницу за еще меньшее вознаграждение или вообще без такового, скрипач оказывается в привилегированном положении. Однажды мне представился случай оценить меру своей привилегированности, хотя бы с точки зрения одного человека…
Приезжая в Чикаго в послевоенные годы, я часто останавливался дома у Эдварда Райерсона, главы компании “Инланд стил” и президента Чикагского симфонического оркестра. Это был подтянутый, элегантный американец старой закалки, разительно отличающийся от одутловатого субъекта, в которого позднее превратился американский бизнесмен. Наша дружба началась необычно: после войны Чикагский симфонический пригласил к себе Фуртвенглера, он согласился, и был подписан контракт. Однако когда антифуртвенглеровское лобби стало угрожать оркестру бойкотом, контракт разорвали и пригласили Кубелика. В разгар этих споров я объявил встречный бойкот, который продолжался год, — в знак протеста против высокомерного отношения к Фуртвенглеру. Так мы с Райерсоном стали близкими друзьями — благодаря моему отказу выступать с его оркестром.