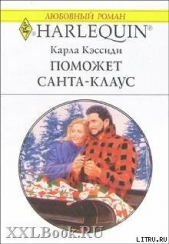Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Писатель европейского масштаба, прозаик и поэт, автор многочисленных романов, рассказов и эссе, X. Клаус известен также как крупный драматург. Не случайно его книги европейская критика называет «эпопеей национального сознания». Широкую популярность X. Клаусу снискала его готовность браться за самые острые, животрепещущие темы. В сборник вошли антифашистский роман «Удивление», роман «Вокруг И. О.», отличающийся острой антиклерикальной направленностью, а также пьесы и рассказы разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Давай найдем себе другой дом, — сказал Петер, но отец промолчал и до самой трамвайной остановки не произнес ни слова.
Он продолжал молчать и в трамвае, только ободряюще улыбнулся Петеру. Скривив рот, отец смотрел в окно, и лицо у него было такое, словно он в сотый раз хотел сказать: «Это не моя вина» — и еще: «У меня нет даже своей комнаты в собственном доме, нет ни друзей, ни жены, моя жена теперь не в счет», — все это Петер знал наизусть. На стекле против его рта появилось матовое серое пятнышко.
Петер подумал: «Пожалуй, не стоит рисовать на стекле, отец может рассердиться». Прислушиваясь к гулу голосов, он размышлял: «Мать даже ничего не крикнула нам вслед, когда большой, обиженный капитан вынырнул из-за двери. А вдруг она больше никогда не раскроет рта? Вернемся домой, а она даже слова сказать не может, ведь однажды уже было так. Отец пришел домой, а у нее ноги не ходят, он толком ничего не понял, разозлился и повел меня к тете Эдит (может, мы снова поплачем вместе?). А вдруг на этот раз мать не только передвигаться, но и разговаривать перестала? Не двигаться, не разговаривать. Что тогда остается человеку? Только зрение. И еще слух. Да мало ли что может еще случиться…» Петер крепко зажмурился, заткнув пальцами уши.
— Петер, прекрати сейчас же, — сказал отец.
Эта фраза словно вернулась откуда-то из недобрых времен, Петер заметил, как заблестели глаза на одутловатом лице отца, и снова стал думать, чем тот занимался, пока он, Петер, спал на берегу реки.
— Что же все-таки будет с радиоприемником, папа? — спросил он.
— Не знаю.
«Что остается у человека, если он лишится зрения? — размышлял Петер. — Что останется матери, если она не сможет прочесть газету, которую приносит ей после обеда соседка? Будет ли она тогда что-то чувствовать? Как это — ничего не чувствовать? Например, если ущипнешь себя за ногу изо всех сил, с разбегу ударишься о край стола или налетишь на стену, неужели ничего не почувствуешь? А если ткнешь себя в живот вязальной спицей или булавкой…»
— Мама говорит, что любит музыку. Ну что ж, раз она любит слушать радио, пусть радиоприемник остается. Всегда вместе — и в горе, и в радости. — Отец засмеялся.
«Делает вид, будто ничего не понимает», — подумал Петер.
Его приятель Брам сказал — а это его матери рассказала потом консьержка, — что отцу Петера прекрасно известно, как и почему мать Петера упала с лестницы, но он нарочно попозже вернулся домой и сделал вид, будто ничего не понимает. Консьержка так и сказала: «Будто ничего не понимает». Да разве разберешь, что у этих взрослых происходит?
Трамвай дергало на поворотах, за окнами стало совсем темно, напротив них сидел пожилой человек, который говорил, едва шевеля губами. Он рассказывал какую-то историю, связанную с курением, однако лицо его почти не двигалось, только едва заметно шевелились губы, вытягиваясь и сжимаясь снова. Глаз человека не было видно, он обращался в основном к сидящему рядом железнодорожнику. Аккуратный господин, сидевший в углу, заметил:
— Я рад, что не курю. От табака один вред. А вы курите?
Железнодорожник смущенно покосился куда-то в сторону.
— Нас было пятеро братьев, и один только старший курил.
А его седой сосед продолжал:
— У меня отец курил, и брат Жюль курит, и сам я курю, и… — он умолк, огляделся по сторонам и остановил свой взгляд на Петере, — моя мать тоже…
Петер еще немного подышал на стекло и нарисовал пароход, правда, труба и дым не поместились. Только когда он второй раз услышал свое имя в смутном гуле голосов, до него дошло, что отец обращается к нему, и он спросил себя, как не раз спрашивал и раньше: интересно, отец говорит с ним таким же тоном, как с незнакомыми людьми, и еще — разговаривает ли отец, когда остается совсем один в трамвае, или у себя в конторе, или, например, в туалете, и что он там говорит, когда остается совсем один? То же самое?
«Она совершенно не двигается, а ведь все обо мне знает. Знает, например, что позавчера я встретил своего приятеля Андре. Откуда? Ведь даже ты, Петер, не знал этого. Она хочет, чтобы у меня совсем не было друзей, она не хочет…»
Трамвай остановился на углу их улицы. Когда они выходили, кто-то хлопнул Петера по спине и произнес: «Поторапливайся, парень». Оказалось, это серьезный, аккуратный человек, сидевший в углу.
Подойдя к двери, отец начал шарить по карманам в поисках ключей, и лицо его принимало то выражение, которое было предназначено для дома — веки полусомкнуты, рот приоткрыт, между бровями залегла морщинка.
— Куда ты смотришь, Петер? — спросил он.
— На тебя, — ответил Петер и спросил, едва отец повернул ключ в двери: — А можно, я пойду с тобой?
— Хорошо, пойдем вместе.
Они вошли в комнату и сказали: «Добрый вечер, Жюльетта», «Добрый вечер, мама», но мать ничего не ответила. Только посмотрела на них ледяным взглядом, как в давние времена, и равнодушно спросила:
— Так где же вы были?
— Ходили на берег Лейе, — ответил Петер и отвел взгляд. На неподвижном, как у сфинкса, лице матери не было и следа медленного разрушения, настигшего ее тело. Что остается у человека, после того как он перестает слышать и чувствовать?
— Как там хорошо! — сказал Петер.
— Могу себе представить, — отозвалась мать, и в голосе ее не слышалось ни тоски, ни раздражения, только затаенная радость, словно она собиралась сообщить им что-то ужасное. — Я отправляюсь спать. Можешь помочь своему отцу, дяди Альберта сегодня не будет, — добавила она.
Петер подождал, пока отец (за время их отсутствия ничего не случилось, мебель стояла на своих местах, так же размеренно тикали часы, и мать по-прежнему сидела в своем кресле) на кухне подтянет помочи и выпьет свои порошки. Потом они вдвоем — такое случалось обычно раз в два месяца, когда дядя Альберт не ночевал дома или возвращался очень поздно, а соседки и ее мужа тоже не было, — поднимут мать и снесут ее по лестнице. После этого все тут же улягутся. И Петер будет прислушиваться к клокочущему храпу отца в соседней комнате — дыханию человека, которого медленно душит невидимая рука. А мать по ночам он не слышал.
Самое красивое платье
Она соскребла с тарелок застывший в жире картофель, слила в соусник остатки пива и отнесла все на кухню.
Он уже в шестой раз раскладывал карты, но карты никак не сходились. Все зависело от туза червей или десятки пик. Черный валет на красную даму, красная десятка на черного валета и так далее. Когда все у него сходилось, он успокаивался и шел в спальню. И так каждый день. Нужно немало терпения, чтобы карты легли как надо. Недаром это называется «пасьянс» [155].
Она подумала о том, что сестре не составило бы труда сделать и его таким же, как ее муж, умеющий и радоваться и грустить, браниться и петь песни. Впрочем, она никогда не говорила об этом с сестрой и не приглашала ее сюда.
Он снова тасовал и раскладывал карты. Восьмой пасьянс. Днем их было двенадцать. Сегодня двадцатое декабря (послезавтра она получит жалованье), четверг. Впрочем, какое это имеет значение?
Время шло. Она прогуливалась по саду, в траве, в кустах стрекотали кузнечики. Проходя мимо окна кабинета, она слышала, как он что-то бормочет, тасуя колоду.
В десять вечера она поднялась наверх, разделась и начала мыться в огромной белой лохани. Когда зазвенел звонок, она сидела, опустив одну ногу в воду, а другую поставив на полотенце. Два коротких звонка — так обычно звонит булочник. В спешке она наклонила лохань, и по полу растеклась лужа с хлопьями пены. Вскрикнув, она стала подтирать пол полотенцем. Позвонили еще два раза, потом в прихожей послышались голоса. Она узнала угрюмый голос учителя, вышла в коридор и перегнулась через перила. Голоса доносились из кабинета.
Прошло полчаса — вернее, прошли долгие часы и дни с той поры, как она стала экономкой в доме учителя, невыносимо долгие два года, когда дни шли своей чередой, а она не слышала слов, которых так ждала, дверь кабинета, где он раскладывал пасьянс, ни разу не распахнулась для нее, ведь она оставалась для него просто вещью; тягучие осенние дни, когда в огромном, безмолвном доме совершенно нечего было делать, она сидела на кухне и, глядя на редеющую листву и серых птиц, думала: «Я — птица, я — ветка…» Она проснулась потому, что кто-то позвал ее, учитель склонился над ее кроватью, она хотела сказать ему: «Задерни шторы, чтобы нас не увидели в окно», но в стекло просто билось какое-то насекомое, и лишь тень учителя нависла над ней, но она слышала его голос (наконец-то), он что-то говорил ей (да, да, те самые долгожданные слова), повторяясь и нервно путаясь. «Да, конечно», — ответила она и немного погодя уже спускалась по лестнице, напевая про себя «Самое красивое платье, самое красивое»; она шла, глядя прямо перед собой и слегка улыбаясь той печальной улыбкой, которую видела в модных журналах сестры: «Посмотрите на мое вечернее платье, золотые серьги и диадему на голове! Взгляните на меня, я — его жена!»