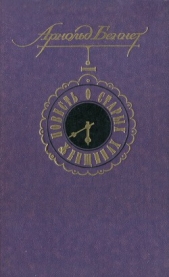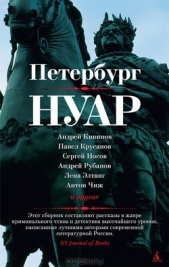Русские женщины (47 рассказов о женщинах)

Русские женщины (47 рассказов о женщинах) читать книгу онлайн
Странное дело: казалось бы, политика, футбол и женщины — три вещи, в которых разбирается любой. И всё-таки многие уважаемые писатели отказались от предложения написать рассказ для нашего сборника, оправдываясь тем, что в женщинах ничего не понимают.
Возможно, суть женщин и впрямь загадка. В отличие от сути стариков — те словно дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены просто, как электрические зайчики на батарейке «Дюрасел», писать про них — сплошное удовольствие, и автор идёт на это, как рыба на икромёт.
А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших аплодисментов нам не получить. Всё запутано, начиная с материала — ребро? морская пена? бестелесное вещество сна и лунного света? Постигнуть эту тайну без того, чтобы повредить рассудок, пожалуй, действительно нельзя. Но прикоснуться к ней всё же можно. Прикоснуться с надеждой остаться невредимым. И смельчаки нашлись. И честно выполнили свою работу. Их оказалось 43. Слава отважным!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лик проступает из невремени, из безмолвия, из огня. Он смотрит и узнаёт, он безмолвно помогает и изменяет всю мою жизнь. В Советском Союзе, когда живы были дед с бабкой, они говорили: ща-ас, ща-ас, вот щас китайцы нападут — и всем могила будет! Так напугают меня этими китайцами, что я, маленькая, спать не могла, лежала в темноте и всё ждала, что вот сейчас начнут китайцы бомбить. Ща-ас китайцы-то! Ща-а-ас… А матери в то время уже не было в живых; мать умерла, когда мне было одиннадцать лет. Мать работала за рекой, возвращалась вечером с работы, какой-то парень выхватил у неё сумочку, а чтоб не сопротивлялась, ударил её ногой в живот. Мать так испугалась! Долго сидела и слова произнести не могла. Потом очень быстро заболела раком и умерла. В Зареке тогда много людей умирало. Один раз на свадьбе умерло семь человек, опившись нехорошим спиртом. Ну а теперь я могу решать проблемы с помощью всего чего угодно: вот с помощью той же самой бейсбольной биты. Биту приятно держать в руке, она так равномерно утолщается! Особенно мне нравятся кленовые биты, но и берёзовые хороши. А видели ли вы когда-нибудь металлические биты — биты из сплава алюминия? Бита в 42 дюйма становится чудесным продолжением вашей руки…
Вот так я жила в мире, лежащем во зле и объятом любовью Троицы, пока Он не изменил меня всю изнутри с помощью внутренней свободы. Там, где я жила, имели смысл все эти слова: я встретил тебя в апреле и потерял в апреле, ты стала ночной капелью и шорохом за окном, стала вдоль веток-строчек чётким пунктиром точек, зелёным пунктиром почек в зареве голубом, тучек густых отара катится с крутояра, месяц, зевнув, их гонит к речке на водопой, скучное это дело давно ему надоело, он ждёт не дождётся встречи с хохочущею зарёй, а наши с тобой апрели кончились, отзвенели, и наши скворцы весною не прилетят сюда, прощанье не отреченье, в нём может быть продолженье, но как безнадёжно слово горькое «Никогда!». Там, где я сейчас живу, не имеют никакого смысла все эти слова: я, наверное, так любил, что скажите мне в эту пору, чтоб я гору плечом свалил, — я пошёл бы, чтоб сдвинуть гору, я, наверное, так мечтал, что любой бы фантаст на свете, мучась завистью, прошептал: «Не губи, у меня же дети!» — и в тоске я сгорал такой, так в разлуке стремился к милой, что тоски бы моей с лихвой на сто долгих разлук хватило, и, когда через даль дорог эта нежность меня сжигала, я спокойно сидеть не мог, даже писем мне было мало, у полярников, на зимовке, раз в груди ощутив накал, я стихи о ней написал, молодой, я и сам не знал, ловко вышло или не ловко, только дело не в том, наверно, я светился, как вешний стяг, а стихи озаглавил так: «Той, которая любит верно!», почему на земле бывает столько горького, почему, вот живёт человек — мечтает, вроде б радости достигает, вдруг — удар, и — конец всему, почему, когда всё поёт, когда вот он я, возвратился, чёрный слух, будто чёрный кот, прыгнув, в сердце моё вцепился. Да и имели ли какой-то смысл все эти слова? Та же тропка сквозь сад вела, по которой ко мне она бегала. Было всё, и она была, и сирень, как всегда, цвела. Только верности больше не было. Каждый май прилетают скворцы. Те, кто мучился, верно, знают, что, хотя остаются рубцы, раны всё-таки зарастают. И остался от тех годов только отзвук беды безмерной да горячие строки стихов «Той, которая любит верно!». Я хотел их спалить в огне. Верность женская — глупый бред. Только вдруг показалось мне, будто кто-то мне крикнул: «Нет! Не спеши и взгляни пошире. Пусть кому-то плевать на честь, только женская верность в мире всё равно и была, и есть». И увидел я сотни глаз, заблестевших из дальней тьмы: «Погоди, ты забыл про нас. А ведь есть на земле и мы!» Ах, какие у них глаза! Скорбно-вдовьи и озорные. Женски гордые, но такие, где всё правда: и смех и слеза. И девичьи, всегда лучистые — то от счастья, то от тоски. Очень светлые, очень чистые, словно горные родники. И поверил я, и поверил! «Подождите, — я говорю, — вам, кто любит, и всем, кто верен, я вот эти стихи дарю». Пусть ты песня в чужой судьбе и не встречу тебя, наверно. Всё равно. Эти строки тебе: «Той, которая любит верно!» Собачье дерьмо. Собачье дерьмо все эти слова и вся моя прежняя жизнь. А теперь есть у меня Glock-18 — австрийский автоматический пистолет. Если херачить из него очередями, то можно делать 1200 выстрелов в минуту. К нему можно использовать три стандартных магазина или магазин усовершенствованный. И аля-улю. «Ты стала ночной капелью и шорохом за окном».
Его не надо искать — Он приходит и говорит. Берёт — и делает. Ты мечтаешь изменить свою жизнь, и Он неузнаваемо изменяет всю твою жизнь. После смерти матери, когда я, маленькая, в деревне жила, то чертей видела. Вот, помню, выглянула в окно, а они сидят на улице и самокрутки курят. Мохнатые, с копытцами. А один раз за деревней видела, как чёрный шар на дорогу упал, плюхнулся, растёкся по дороге и вмиг его не стало. В деревне я всё время играла в похороны, это была самая любимая моя игра. Бабушка и тётя очень сильно меня за это ругали: мол, что это ещё за игры такие! Училась там в селе Успенском в успенской школе. Ну а что? Школа как школа. Рассказывали в пятом классе друг другу басню про козла: пошёл козёл в кооператив, купил козёл презерватив. Копали в Успенке, помню, картошку — вкусная, рассыпчатая успенская картошка! А какой тётя пекла рыбный пирог в деревенской печке!.. Ничего вкуснее не ела я за всю свою жизнь. Вот, наверное, единственное, о чём я скучаю, — об этом пироге. Нет такого пирога в удивительном городе-лабиринте, где я сейчас живу. Вот едешь, едешь на север, и от города уже ничего не остаётся, смотришь, а это и не город вовсе, а сельская местность. Вот едешь, едешь, едешь и приезжаешь в округ Блейн, где всё поросло кустарником, где полно жилых автоприцепов и мерзких захолустных баров. Вот гоните вы свою машину по лабиринту городских улиц и наконец попадаете на автостраду. С рёвом врываетесь вы в поток машин, которые тщетно пытаются отскочить в сторону и врезаются в разделительное заграждение. Вы мчитесь, мчитесь, мчитесь вперёд, скоро оказываетесь за городом и съезжаете с автострады, катите по пыльным просёлкам, по кочкам. Бросаете машину, какое-то время идёте пешком до первого попавшегося магазина, покупаете новую одежду и находите другой автомобиль. Где вы сейчас — совершенно непонятно, местность незнакомая и тревожная, и нужно возвращаться назад в город.
За шесть лет до смерти матери отец с ней развёлся и уехал к себе во Владимир. Он, помню, приезжал ко мне в село уже после маминой смерти и привёз большого плюшевого медведя. Потом он разругался с тётей и медведя этого назад забрал. Мне было так обидно — я сидела и горько плакала весь день. Ничего меня не могло утешить. Отец через десять лет разбился насмерть: он сорвался с балкона любовницы и разбился. Любовница потеряла ключ, а отец решил от соседей через балконную форточку влезть в квартиру и открыть её изнутри. Да вот поскользнулся и упал с пятого этажа. Говорят, он несколько месяцев умирал в больнице в страшных мучениях. После школы я поступила в университет на французский язык. Слушала на магнитофоне Мирей Матьё, Жоржа Брассенса, Далиду. Переводила тексты. Сама пела, да как классно пела! Взяли меня певицей в ансамбль «Ровесник». Исполняла, помню, песни Аллы Пугачёвой и Софии Ротару. «Ах, эти летние дожди…», «Сделать хотел осу, а получил козу», «Арлекино, Арлекино…» Помню, как поехали выступать с ансамблем «Ровесник»: в автобусе пили портвейн и вопили песню про «Садко», матерную, ту, где есть слова «Три дня не унимается, бушует океан». Чего я хотела тогда, в этом советском автобусе? Хотела стать знаменитой на всю страну певицей, хотела выйти замуж за француза и уехать с ним жить во Францию. Почему за француза? Потому что мне очень нравился французский язык, я легко запоминала нужные слова и хорошо говорила с французским прононсом. А сейчас, в этом новом мире, произошло самое главное — исчез страх. Я больше не боюсь никого и ничего. Я мчусь на квадроцикле, стреляю на ходу, забираюсь на водонапорную башню. Я запрыгиваю с вездехода на крыло самолёта. Я одного за другим убиваю из снайперской винтовки охранников газовой станции и взрываю газовую станцию к чертям собачьим. Ощущенье свободы — неописуемое, пьянящее ощущенье свободы, когда можно всё, что только захочешь, можно стрелять во всех подряд, можно резать людей на улицах… И ещё — тут очень красиво! Сияющие бары, стрип-клубы, вечеринки, яхты. Изумительная грязь, летящая из-под колёс мчащегося автомобиля. Глядя на эти сочные цвета, я и не вспоминала грязно-серую Тюмень 70-х годов ХХ века, и грязно-серое село Успенское, и ледяной Салехард, куда меня звали за приличные деньги певицей в ресторан. На Рокфорд-Хиллс, где я теперь живу, стоят богатые и шикарные городские особняки, есть гольф-клубы и теннисные корты. Конечно, у меня и сейчас проблемы, но они совсем другие, чем в той, прежней жизни, когда я много раз заканчивала жизнь самоубийством, зная, впрочем, что, насмерть отравившись таблетками, я через некоторое время открою глаза и увижу белоснежную больничную палату. Лос-Сантос — не Тюмень и не село Успенское. Лос-Сантос — это Лос-Сантос, мать его!