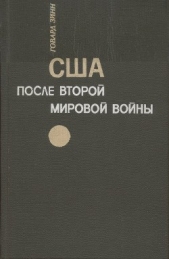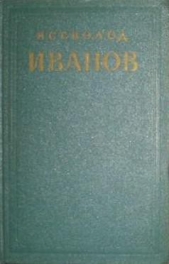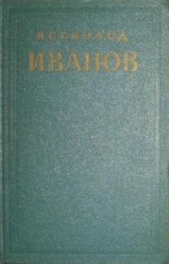Избранные
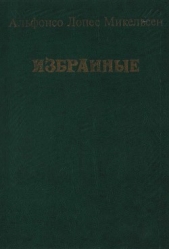
Избранные читать книгу онлайн
Роман «Избранные», принадлежащий перу видного общественно-политического деятеля, бывшего президента Колумбии Альфонсо Лопеса Микельсена, написан от лица потомственного франкфуртского банкира, который, спасаясь от преследований нацистов, эмигрировал в Латинскую Америку. Роман отличается антиимпериалистической, пацифистской направленностью. Автор анализирует экономические, политические и социальные процессы в латиноамериканском обществе. Основной обличительный пафос романа направлен против «избранных». Миллионерам от сахара, кофе, табака и хины противопоставлен мир простых и скромных тружеников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Машина шла по сельской дороге — в облаках пыли трудно было различить даже силуэты ив, склонившихся вдоль нее. Но зелень окрестных полей напоминала мне европейские долины в начале лета. Я испытывал настойчивое желание спросить у моих спутников: «Неужели вам не интересна жизнь окружающих вас людей? Вы слушаете сообщения о том, что в каком-то из европейских городов погибли при бомбардировке сто, двести, тысяча человек, — и неужели в этот момент вы не мечтаете об окончании войны?!»
Но единственной мыслью, которую я осмелился высказать, и то вполголоса, было:
— Никого не волнуют безвестные жертвы…
— Что вы сказали? — спросила Мерседес.
— Никого не интересуют наши погибшие. Они ведь — ни знакомые, ни друзья…
— Действительно, не интересуют. Видимо, потому, что Германия слишком далека от нас. Другое дело, если бы гибли соотечественники. Каждый с ужасом читал бы в газетах сообщения о потерях, хотя имена жертв были бы незнакомы.
— Кто знает, быть может, вы утратили жалость и к землякам. Сотня-другая человек, погибших где-то в Европе, не волнует вас. А завтра десяток-другой погибших соотечественников тоже покажется вам пустяком, не заслуживающим внимания.
На безлюдной площади — когда-то, видимо, это селение считалось крупным — возвышалась каменная церковь. К ней мы и направились. Здание было почти разрушено, и я тщетно пытался обнаружить какие-либо архитектурные достоинства, которые оправдали бы восхищение моих друзей. Храм насчитывал лет сто пятьдесят — двести, но в этой стране отсчет времени совершенно иной, так что этот «возраст» означал то же, что для европейца — десять веков. Очевидно, лишь тот факт, что церковь принадлежала к колониальной эпохе, и заставлял моих спутников восхищаться ею как исторической реликвией. Картины, украшения стен церкви, на мой взгляд, также были лишены какой-либо художественной ценности. Зато здесь царила своя особая атмосфера крестьянского смирения, искреннего и наивного, способного пробудить в душе самого яростного атеиста сотни мыслей о судьбе человека.
— На меня всегда очень действуют такие картины, — сказал я Мерседес, когда мы вышли на площадь. — Вы, конечно, не знаете, что я принадлежу к евангелистам. Моя мать готовила меня в священники. Не смейтесь! Это чистая правда, хотя сегодня выглядит шуткой. До пятнадцати лет я вел жизнь анахорета… жизнь монаха-отшельника.
— Не учились ли вы, чего доброго, в семинарии?
— Нет, у нас это не принято. Я сказал вам о жизни анахорета, чтобы вы представили себе, как я жил в родительском доме. Он был очень не похож на те, что знаете вы. Поэтому меня так интересуют католические церкви. Эти картины… В храмах, куда водила меня мать, не было никакого убранства. Только над алтарем возвышался одинокий и мрачный Христос. Его руки были скрещены на груди, а не раскрыты для объятия, напоминая нам, что бог не бесконечно милостив, как его представляют католики.
— Церковь может быть строгой по убранству, но почему бы в ней не быть картинам хороших художников, распятиям, статуям? Ведь такие картины, как восхождение на Голгофу, иллюстрации Житий святых, совершенных ими чудес, просто необходимы. Они лишь усиливают веру, — возразила мне Мерседес.
— Но не у нас. Именно в этом упрекали в моем доме католическую церковь — в стремлении сделать бога более человечным. Если бы вы побывали в протестантской церкви — голые, холодные стены! Я пел там церковные гимны, будучи совсем еще ребенком. А вот увиденное нами здесь изображение праведника и грешника не только не могло украшать нашу церковь, но нам бы даже запретили смотреть на такую картину! Это ведь профанация веры!
— Даже из любопытства вы никогда не заходили в католические храмы?
— Любопытство, когда речь идет о боге? Как можно?! Но давайте, Мерседес, поговорим о чем-либо другом. От моих слов у вас, видимо, такое ощущение, будто вам рассказывают о нравах крестоносцев.
— Нет, нет, мне очень интересно.
— Я познакомился с католическим богослужением во Франции уже взрослым, после смерти матери. Мы испытывали неподдельный ужас перед «папизмом», как говорили в нашей семье. Атласные облачения, украшенные шитьем и золотом, многокрасочные картины, запах ладана… Все это выглядело кощунственно для моих родителей-пуритан…
— Но семья К., проживающая здесь, ведь не принадлежит к лютеранам, не так ли?
— Не принадлежит. Все они — католики, так как римская церковь и от смешанных браков требует воспитания детей в лоне католицизма. Жена моего дяди Самуэля была католичкой, поэтому и все мои кузены — католики. Кстати, тоже неслыханно: католическая ветвь в семействе К.! Трудно представить себе, каким был мой кузен Фриц К., когда он приехал во Франкфурт. Дядюшка Самуэль отправил его изучать немецкий язык. Фриц жил в нашем доме.
— Фриц К.? Управляющий фирмы «Ла Сентраль»?
— Он самый.
— Я его почти не знаю. Он намного старше мужа и всех нас. И вообще, он такой странный, слишком нервозный.
— Если бы вы знали его в молодости! Фриц был веселым, беззаботным юношей.
— Говорят, теперь он стал угрюмым, замкнутым.
— Я это знаю.
— А прежде он не был таким?
— Нет. Я до сих пор не понимаю, как моя мать дала согласие на то, чтобы он жил у нас во Франкфурте. Фриц то и дело выходил победителем в борьбе против предрассудков, гнездившихся в нашем доме. Однажды я попытался найти в семейных архивах бумаги, которые бы свидетельствовали о том, как отнеслись мои родители к браку дядюшки Самуэля и женщины индейского происхождения, да еще католички, а именно такой и была тетя Эстер. Однако мне ничего не удалось обнаружить. Родители всегда отзывались об этой женщине с уважением, хотя для них явилось ударом то, что брат связал себя с римской церковью, к которой прежде испытывал непобедимую неприязнь.
— Наверно, любопытно почитать семейную переписку вековой или полувековой давности?
— Конечно. Но в прошлом веке, тем более в таких строгих буржуазных семействах, как наше, стиль переписки был полон условностей. Мать, например, скрывала свои чувства под маской полнейшего бесстрастия. В ту эпоху это было так же принято, как сейчас — демонстрировать всем свои эмоции. Я помню, что мать ни разу не возмутилась поведением Фрица, и снова и снова восхищаюсь выдержкой этой женщины. Можете себе представить: в нашем доме молодой человек, наполовину латиноамериканец, к тому же католик! Изощренный, изысканный, как тропический цветок! Не отягощенный никакими условностями и предрассудками, столь свойственными нам. Фрицу едва исполнилось семнадцать лет ко времени его приезда во Франкфурт, а он уже познал женщин. Играл в карты, выпивал, гулял допоздна. Я на несколько месяцев старше его, но жил в постоянном страхе. Боялся ослушаться, возразить, нарушить то, что у нас дома называли «хорошими манерами». Фриц понятия не имел о каких-то там манерах. Приведу лишь один, достаточно красноречивый случай. В родительском доме как зеницу ока берегли шляпу, некогда принадлежавшую моему деду-бургомистру. Эта семейная реликвия с незапамятных времен хранилась на комоде. Никто и никогда не осмеливался дотронуться до этой святыни! Внуки — немцы, мы взирали на нее с таким уважением, будто то были мощи самого усопшего деда. Но Фриц, не пробыв в доме и двух недель, залез на комод, схватил шляпу и стал паясничать! Никто из нас даже не осмелился улыбнуться при этом!
Я говорил и говорил. Мне хотелось выговориться, дать понять Мерседес, что я — тоже человек со своими проблемами и что разница между миром моим и ее для меня не новость.
— У Фрица никогда не было никаких обязанностей. Для него не существовало понятия «пунктуальность», а для нас она была законом. Как важно было вовремя поспеть к обеду! Мы мчались домой, несмотря ни на какие препятствия, чтобы не опоздать ни на минуту. А Фрицу было все едино: придет ли к обеду в час или в час тридцать! Поспеет ли к девяти часам вечера, когда все в доме удалялись на покой, или нет. Надо знать наши семьи, чтобы понять: такие нарушения считались у немцев чуть ли не подрывом жизненных основ. Мой отец, дяди, деды — поколения К. выходили из своих контор в одно раз и навсегда установленное время. Причем с той точностью, с какой появляются на Вормсском соборе двенадцать апостолов, — при первом ударе часов! Мать, естественно, выходила из себя, что семнадцатилетний мальчишка заставлял ее ждать, но никогда не подавала виду, что она чем-то недовольна.