Шестьсот лет после битвы
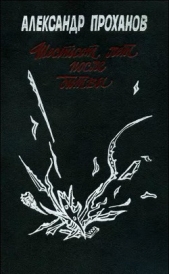
Шестьсот лет после битвы читать книгу онлайн
Роман А. Проханова «Шестьсот лет после битвы» — о сегодняшнем состоянии умов, о борении идей, о мучительной попытке найти среди осколков мировоззрений всеобщую истину.
Герои романа прошли Чернобыль, Афганистан. Атмосфера перестройки, драматическая ее напряженность, вторжение в проблемы сегодняшнего дня заставляют людей сделать выбор, сталкивают полярно противоположные социальные силы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это слушал Чеснок, чутко улавливал и обдумывал. И решение удрать крепло.
Когда через несколько дней его нарядили в белую шапочку, в пугающе чистую робу, выдали респиратор и на автобусе вместе с другими бетонщиками привезли на станцию, он по-настоящему испугался.
Скопление техники. Урчащие, дымящие, сосущие и качающие механизмы. Красные пожарные машины с надрывной сиреной и лиловыми вспышками. Вертолеты, исчезающие за полосатой красно-белой трубой, пикирующие на аварийный реактор. Приплюснутые «бэтээры» в свинцовых попонах, медленно уползающие на станцию, в близкое неизвестное и пугающее. Множество людей, одинаковых, в масках и робах, исчезающих в чреве станции. И сама она, огромная, белая, солнечная, окруженная невидимым, пронзающим все излучением, глотающая белые толпы, похожая на громадную операционную, в которой, если заглянуть внутрь, на белом столе лежит неподвижное тело и хирурги-великаны с хрустом, треском рассекают его.
Это видение было столь страшным, станция столь угрюмо на него надвигалась, валила из неба полосатую трубу, дула смертью и гибелью, что Чеснок, потихоньку пятясь, отдаляясь от бригады, зашел за грузовик с цистерной. Прохлюпал но белой разлитой жиже. Увидел отъезжающий автобус. Успел впрыгнуть в дверцу и покатил прочь от гиблого места, зная, что уж больше сюда не вернется.
Но, покуда ехал по гладкому голубому асфальту, мимо зеленых сосняков, цветущих обочин, белых, мелькавших на пригорках сел, страх его понемногу исчезал. Исчезли затравленность, беспокойство, угрюмое недовольство. Он снова был вольной птицей, бродягой без кола, без двора. И эго освобождение побуждало его к озорству, порождало желание куролесить. Не просто сбежать отсюда, покинуть эти украинские, вверх дном перевернутые земли, а что-нибудь выкинуть, натворить напоследок.
В селах белели хаты безлюдно, нарядно. От шоссе к ним тянулись проселки. Его подмывало побывать в этих селах, поискать и порыскать. Вдруг что-нибудь плохо лежит. Хотелось заглянуть в эти белые дома без хозяев.
— Притормози-ка, — попросил он шофера. — Тут где-то наши работают! — неопределенно махнув, он выскочил на дорогу, отпуская удалявшийся, затихавший автобус.
От шоссе через поле ответвлялся проселок. Стоял указатель с надписью «Беляки». Травяная обочина, зеленое поле, гряда кустов, темневший в отдалении лес были огорожены свежеотесанными столбами, натянутой на них колючей проволокой. При съезде на проселок высилась обшитая тесом наблюдательная вышка. Два солдата смотрели на подходившего Чеснока. Один говорил по телефону, другой спускался к нему по ступенькам.
— Нельзя. Запретная зона, — преградил дорогу солдат.
— Все будет нормально, товарищ старший лейтенант, — договаривал по телефону тот, что стоял на вышке. — Два трактора и две водовозки.
А в нем, в Чесноке, по-прежнему озорство, веселое бесстрашие, желание играть и дурачиться. Он видел, что оба солдата русские. Коверкая украинские слова, придумывая и складывая их в невообразимый, создаваемый тут же язык, он сказал:
— Та хлопцы, чи вы нэ бачите! Я ж мистный! 3 Биляков! Мэне ж треба до дому, до хаты!
— Запретная зона. Никого не пускаем, — сурово и неколебимо отказывал солдат, невысокий, смуглый, с шелушащимися скулами, рассматривая белое одеяние Чеснока, болтавшийся на его шее респиратор.
— Дак це ж мое сило! Як нас эвакуировали, мы усе покидали, уси вещи, уси харчи. Бабка дюже болие. Мэне за ликарствами послала. Заховала ликарства у хати, а теперь болие. Пустите, хлопцы. Я трохи з дома возьму и вертаюсь, — выдумывал на ходу, увлекаясь игрой. Знал, что так или иначе проведет, облапошит этих серьезных худосочных солдатиков.
— Нельзя, — вмешался второй на вышке. — Зараженная зона. Вот пройдет химзащита, снимет фон, тогда возвращайтесь.
Зазвонил телефон. Солдат отвернулся, стал бубнить в трубку.
— Нэ можно дак нэ можно! — сокрушался Чеснок, внутренне веселясь своей украинской, бог весть откуда взявшейся речи. — Бабка дюже болие!
И пошел вдоль обочины, вдоль столбов с каплями желтой смолы, с перекрестьями стальной, не успевшей заржаветь проволоки.
Дождался, когда вышка скроется за кустами. Пролез под проволоку. Отцепив от робы колючку, шмыгнул в кусты и вышел на поле.
— Стой! — услышал он за спиной.
Оглянулся. К нему бежал солдат, тот, что разговаривал с ним под вышкой.
— Как же, салага, сейчас! — огрызнулся Чеснок и помчался но полю, сильно, крепко толкаясь ногами, улыбаясь свистящему теплому ветру, чувствуя, зная, что легко убежит от низкорослого солдата. — Салага сушеная, недокормыш!
— Стой! — продолжал кричать солдат, отставая, останавливаясь, глядя из-под ладони на Чеснока. А тот продолжал легко бежать, не к селу, а к темневшему лесу, сбивая с толку солдата, радуясь силе своих ног, своей удали, своему превосходству.
— Салажонок недокормленный!
Он постепенно переходил на шаг, успокаивал дыхание, оглядывался. Было солнечно, тихо. Поле, непаханное, поросло дерном, было усеяно редкими камнями. Он поднял один голыш, гладкий, теплый, прижал к щеке. Отбирал накопленное в камне тепло. Засмеялся. Он снова был вольный казак, сам себе голова. И никакие вышки и проволоки, никакие взорвавшиеся станции и обитые свинцом транспортеры ему не помеха. Не касались его. Остались or него в стороне.
Он услышал тихий далекий стрекот. Услышал и забыл. Но стрекот усилился, приблизился. Двигался где-то в небе, кругами, за соседним холмом. Над кромкой леса возник вертолет, хвостатый, низко летящий, с пепельной тенью винтов. Прошел над полем, пересек его в стороне, развернулся и двинулся к нему, Чесноку.
«За мной, — промелькнуло. — Солдаты… Телефон… Навели, салаги!»
Он пригнулся, стараясь быть незаметней. Вприпрыжку, сгибая голову, забывая выбросить камень, помчался к лесу, далекому, мягко темневшему.
Но слишком выделялся на поле его ослепительный наряд. Вертолет приблизился, завис над ним, наполняя небо звоном, ревом, железным снижавшимся свистом. Продолжая бежать, задирая голову, Чеснок увидел вертолетное гладкое брюхо, швы на борту, красную звезду и в глазированном блеске кабины лица пилотов, наклонившихся к нему из неба.
— Суки! Не возьмете! — выдохнул он, кидаясь из-под железного, дующего ветром шатра, меняя направление бега, хрипя от напряжения, затравленный, шустрый в белой мелькавшей робе. — Суки вонючие!
Вертолет снижался, давил, плющил его, растирал по земле своим отшлифованным брюхом. Рассекал винтами, утюжил, сминал. И он испытал ужас, чувствовал, что погибает, — сейчас получит удар из пулеметов и пушек.
Споткнулся, упал. Резко, вьюном развернулся, лицом вверх к стальной ненавистной машине. Оскалясь, плевался липкой грязной слюной.
Его опять настигли, опять травили и гнали, как волка, с самого детства. Отыскивали повсюду, хватали, чтобы мучить и бить. И теперь нашли посреди пустынного поля — схватят и свяжут, затолкают в железное чрево, вернут обратно на страшную, готовую взорваться станцию.
— Не пойду! — крикнул он в грохот винтов. — Не пойду, суки!.. Стреляйте!
Он испытал последний предельный ужас, затмевающий глаза слепыми бельмами. Прозрел в яростном бешенстве, готовности отбиваться. Вскочил, ненавидя зеленую лягушачью морду машины, красную звезду на борту, лица пилотов.
— Бью, суки! — Он вспомнил, что в кулаке у него голыш. Размахнулся и метнул его навстречу машине.
То ли вертолетчики углядели взлетевший камень, то ли не было у них на борту людей, способных сойти на землю, задержать и вернуть Чеснока, но машина качнулась, стала набирать высоту. Отвернула и, мерно урча винтами, стала удаляться над полем. А Чеснок, согнувшись, отплевываясь, чувствуя над собой поколебленное разорванное небо, торопился к лесу. Забредал в сосны, вглубь, в тишину, заслоняясь густыми горячими вершинами, прочь от людского глаза, с колотящимся ненавидящим сердцем.
Он забредал, углублялся в лес, подныривал под зеленые лохматые шатры, защищался ими от неба, от погони. Было тихо. Пахло горячей хвоей, теплой, потревоженной его шагами землей. Сердце продолжало ухать. Каждый вздох причинял страдание, будто сквозь легкие продернули колючий металлический шнур.
























