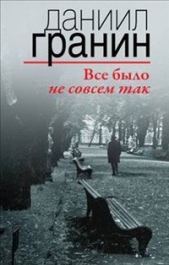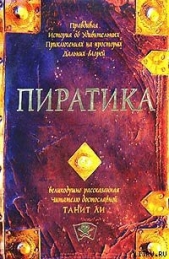Моя другая жизнь

Моя другая жизнь читать книгу онлайн
«Моя другая жизнь» — псевдоавтобиография Пола Теру. Повседневные факты искусно превращены в художественную фикцию, реалии частного существования переплетаются с плодами богатейшей фантазии автора; стилистически безупречные, полные иронии и даже комизма, а порой драматические фрагменты складываются в увлекательный монолог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я понял! Вот оно, объяснение: сложный отсчет в обратном порядке, алгебра смерти. Мне было сорок девять лет.
О самоубийстве я не помышлял никогда. Самоубийство требует силы воли и решительности. Люди, не сумевшие покончить с собой с первого раза, как правило, возобновляют попытки. Я был попросту несчастен. Однако несчастье предполагает колебания в весе, испытание на выносливость, частый пульс, а значит, мне было что считать.
Я стал покупать вещи и, только придя домой, каждый раз соображал, что все они у меня уже имеются. Поразмыслив насчет коротковолнового приемника, я в конце концов приобрел его; дома меня ждал такой же. Я просто об этом забыл. Потом настал черед джинсов. Я думал, они мне нужны, но, оказалось, ошибся: в шкафу уже лежала ненадеванная пара. Кашемировый свитер обошелся мне в четыреста долларов; теперь их стало два. Список легко продолжить: велосипед, ружье, аппарат для приготовления воздушной кукурузы, видеомагнитофон и прочее, прочее, прочее. Я как будто налаживал, оснащал всем необходимым какую-то новую жизнь, не сознавая, что моя уже оборудована теми же самыми предметами. Я делал покупки, отдавая себе отчет в том, что пытаюсь заполнить пустоту, где не было ничего, кроме печали, заполнить осязаемыми предметами, в надежде, что они отвлекут меня или порадуют. Странно, но я абсолютно бессознательно покупал только те вещи, которые у меня уже были. Расходы и это «дублирование» рождали чувство униженности; новые вещи не заполняли вакуум, а только все усложняли, внося в душу сумятицу, почти хаос.
В поисках не слишком требовательного, а главное, и в глаза меня прежде не видевшего собеседника я сел в машину, отправился в Бостон (шестьдесят четыре мили) и на Чарльз-стрит, неподалеку от пересечения с Ривиэр-стрит, нашел-таки доктора с собственным кабинетом, согласившегося встречаться со мной дважды в неделю. Это была женщина, к счастью хорошенькая. Последнее меня взбодрило — и потому, что я сумел это заметить, и еще потому, что явно не остался равнодушен к ее миловидному лицу и красивым волосам. Я нуждался в обществе приятного человека, который ничего про меня не знает.
Было бы ужасным позором, если бы кто-то узнал, что я и есть тот самый литератор, который пишет о супружеской жизни, о любви, о свободе, о далеких диковинных краях. Помню, что, оказываясь в какой-нибудь гнусной дыре, я всегда говорил себе: ничего, зато будет о чем написать. Эта мысль вселяла надежду. А надежда основывалась на моей способности изжить в слове то, что мне не давало покоя. Я тогда думал, что это — страдания. Теперь я знаю: страданиями там и не пахло. Страдал я сейчас, и это меня парализовало. Боль от расставания с женой, состояние полураспада, в котором я пребывал, — к этому опыту я ни за что не вернусь в книге. Я буду продолжать эту жизнь, и об этом никто и никогда не узнает. Безысходность — знание того, что ничто не изменится, что будущего нет, а есть только настоящее, нескончаемое и мерзкое.
Боязнь позора и привела к тому, что анонимность начала мне нравиться. Я должен был неузнанным приехать в Бостон, неузнанным поесть в полном одиночестве. Не дай бог, меня бы узнали! «Вы писатель?» — спросила женщина на бензоколонке, когда я протянул ей свою кредитную карточку. Я сказал «нет», пряча взгляд потускневших от горя глаз. Но то, что я сказал, было правдой, — я перестал быть писателем.
Мужчина, стоявший сзади, держал в руке хромированный колпачок от бензобака.
— И почем эти у вас?
— Те-то? Баксов на пятнадцать потянут, не меньше.
Я забыл, как американцы разговаривают друг с другом, я словно утратил язык. Мне надо было заново учиться составлять фразы типа «Давай-проходи-заходи, я тебе приготовлю завтрак».
Мне, однако, завтрак никто не готовил. Грустно быть безвестным и одиноким, но разве не было бы хуже, если б меня узнали и принялись разглядывать?! Даже в состоянии полураспада я все же сохранил свою тайну.
Доктор Милкреест приехала в Штаты из Аргентины — хотя фамилия вроде бы звучала не по-аргентински. Больше я о ней ничего не знал. Пытался спросить — но разве они скажут?
2
— Ну, как наши дела, мистер Медвед? — спросила доктор Милкреест.
Этот вопрос она задавала при каждой встрече. А имя я себе специально придумал; среди имен, какими я пользовался прежде, такого еще не было: короче, с новым именем мне предстояло жить в новой жизни. Я был убежден: надо оставаться неузнанным, психоаналитик сумеет разобраться в моих проблемах, только если не будет связывать меня с моими книгами.
Я сказал ей, что я физик. Занимаюсь элементарными частицами. Бостон кишел учеными. Конкретное поле моей деятельности — изучение полураспада радиоактивных ядер.
Я только в этом солгал доктору Милкреест. Она была очень энергична, глаза ее красиво блестели, придавая взгляду остроту. Крупная, хорошо сложена. Подвижный рот становился особенно выразительным в минуты раздумий. Она носила скромные с виду длинные юбки, но я сумел углядеть, что чулки ее (кстати, черные), судя по лодыжкам, украшали замысловатые кружевные узоры.
Ошибки в английском, конечно, немного скрадывали проницательность доктора Милкреест, но ее тактичность, ее умение молча и терпеливо слушать развязывали мне язык. Из-за сильного акцента до меня не сразу доходил смысл ее вопросов, но всякий раз они меня ошеломляли: переведя сказанное ею (это всегда приходится делать, если английский собеседника далек от совершенства, а мог ли он быть иным при таком акценте?), я осознавал, что вопрос попал прямо в точку.
Я то и дело пытался сообразить, в какой стране могла появиться такая фамилия. На острове Мэн? В Дании? В Голландии? И что связывает эту женщину с Аргентиной?
— Я как-то раз видел Борхеса в Буэнос-Айресе, — сказал я.
— Вот как!
Тут я припомнил, что выступаю в роли физика.
— На симпозиуме по молекулярным частицам. Борхес прочел нам стихотворение. Вы когда-нибудь встречались с ним, живя в Аргентине?
Она улыбнулась, дав мне почувствовать мою невоспитанность. Она знала, что после этого мое любопытство и уважение к ней только усилятся.
— Продолжайте, мистер Медвед.
— Пожалуйста, зовите меня Павел.
Мне хотелось, чтобы она заинтересовалась моей фамилией («Славянская?»), ибо, хотя фамилия походила на изуродованный старый мой псевдоним «Медфорд», это было почти русское слово «медведь». Больше того: оно принадлежало к тем пышным лестным именам, какими дикие племена наделяют опасные существа в надежде их умилостивить. «Медвяный ведун».
Она ни о чем таком меня не спросила. Она вообще ни о чем не спрашивала. Я оказался (как бы это сказать?) в словесном вакууме и, слушатель по натуре, — вопросы я задаю, только если хочу заставить кого-то разговориться, — чувствовал себя неловким и необъяснимо скованным в ее кабинете. Будучи упрям и ненавидя молчание, я хотел во что бы то ни стало пробить возведенную ею стену.
Я вообще не привык рассказывать о себе. Для этого существовала моя проза, ее герои, выражающие мои мысли и чувства, и я находил удовлетворение в том, что воссоздавал собственный мир, наделяя его той глубиной и живостью, каких желал для себя самого. Я изобрел способ описывать свою жизнь так, чтобы результат работал на меня. Писатель, умелый рассказчик — вот кем я являлся. И эту главную мою суть скрывала в себе материальная оболочка: хилый, малоприятный сорокадевятилетний слуга, обязанный поддерживать мерцающий огонек таланта и выполняющий свою обязанность то хуже, то лучше. Не всегда справляясь с намеченной задачей, валяясь в постели до полудня, придираясь к окружающим. Порою хныча, не вынося шума и кутерьмы; рассеянный, зевающий, неугомонный, скучающий, глупый человечек… То была половина меня, видимая другим, но не я сам. Сам я был внутри — нестареющий дух, выражающий себя в вымысле, в художественном слове.
Теперь от меня остался только нерасторопный прислужник. Его уже нельзя было считать писателем: писательство кончилось. Огонь погас или в лучшем случае едва тлел. Сохранились лишь внешний облик и безжизненные глаза. Я всегда прощал этой своей половине слезливую чувствительность, леность — так ярче высвечивалась другая половина. Внутри был свет, снаружи — полумрак. Но свет существовал как реальность, полумрак — как иллюзия, мираж. Я не ждал от доктора Милкреест, что она сумеет понять этот парадокс, да и нужды в том не было, — я ведь уже сообщил ей, что физик по профессии.