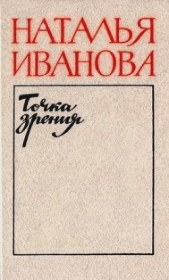Ключ от рая

Ключ от рая читать книгу онлайн
В книгу туркменского поэта и прозаика Атаджана Тагана вошли роман «Крепость Серахс» и три повести. Роман рассказывает о борьбе туркмен и других народов Средней Азии против деспотических режимов Востока — Хивинского, Бухарского ханств и шахского Ирана. Изображая героическую борьбу народа за свою независимость, автор показывает торжество идеи национального единения. В повестях автор создает целый ряд ярких запоминающихся образов, живущих в далеком прошлом, чьи имена чтутся в народе по сей день.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сельская община — аул, в котором жил Блоквил, была основой общественной организации Туркмении во второй половине XIX века. Но и тут общество делилось на слои, положение которых было весьма различным. Это вначале ему показалось, что все здесь живут одинаково, присмотревшись же, увидел, что здесь, как и во Франции, люди делятся на богатых и бедных. Основных слоев в ауле было три. Первый слой — иг: полноправных общинников, как их здесь называли, «чистокровных», владеющих не только пастбищами, но и колодцами. Туркменская ж пословица гласит, что здесь родит не земля, а вода. Это были богачи. За ними шли гельмишеки, занимающиеся в основном издольщиной или владеющие небольшими участками земли. Это был средний класс, примерно такой, к какому относился сам Блоквил. И третий слой — слой кулов и грнак, то есть рабов и рабынь, положение которых было тяжелее, чем у Блоквила.
Это были три основных слоя. Между ними появлялась еще и прослойка ярымов, родившихся от смешанных браков между свободными и рабами. Положение их было незавидным.
Вообще патриархальность витиевато, как и положено на Востоке, здесь переплелась с жестоким рабством. Здесь до сих пор сохранился сапошник — общинная собственность на землю и воду. Здесь земельный надел — су — получал каждый женатый мужчина. Но этим в основном ведь пользовались баи, сосредоточивая в своих руках несколько наделов, путем женитьбы малолетних сыновей. Большой калым за невесту их не смущал, ведь баи богаты, а лишний надел окупится с лихвой. У бедняков же, как правило, не было возможности калым заплатить, лет до тридцати — сорока без жены оставались. А значит, и без надела земли, в бедности. Да, нелегко жили люди вокруг. Как и везде. И, все пристальнее вглядываясь в людскую жизнь, видел он, что черствость, жестокость обязательно соседствуют с жалостью и состраданием. И это открытие согревало его в долгие месяцы плена.
А время шло и шло. Уже и год минул. Переговоры о его освобождении затянулись. Суетливая нетерпеливость, с которой ждал вначале результатов, уступила место душевной сосредоточенности. Не так он жил! Это было ему ясно. А как жить дальше? Конечно, узел можно разрубить, поехать паломником, как мудрый Мухамедовез-пальван, в Мекку и Медину, или… стать йогом, или… остаться здесь навсегда, с этими людьми, которых успел полюбить…
Но чаще всего ночные размышления его при неверном свете коптилки были не очень конкретны: узел, конечно, можно разрубить, но ведь хотелось развязать. Но как? С томительным вниманием заглядывал в себя и… почему-то вспоминалась вдруг собака, зачем-то безжалостно загубленная Кара-сертипом… и самого Кара-сертипа было жаль. А впрочем, он ведь отстрадался уже, как и Тереза-бедняжка. Сегодняшняя боль вокруг стала близка Блоквилу, сегодняшние страдания вокруг. Теперь и скорпиона он палкой не убьет, подцепит щепкой, выбросит за дверь. А в последнее время и не выбрасывает — пускай себе, не тронет, если его самого не трогать. Какая-то гармония, вместе с чужой, со всех сторон кричащей болью, уже входила в его душу. И опять поражала такая, в сущности, простая мысль: зачем было ездить в разные страны, стремиться в музеи, замирать в благоговении перед редкими памятниками, когда сама Природа так близко от нас — ее детей — выставила все, что делает нас и лучше, и счастливее?
А то, что лучше стал душой за этот трудный год, то это ж несомненно. И даже стал счастливее! Хотя, наверное, в это и трудно поверить. Но он-то твердо знает, что это так. Ибо почувствовал главное: человеческая душа, хотя бы и его собственная, оживляющая сейчас это бренное, полуголодное, прикрытое лохмотьями тело, наверняка в своей изначальной предназначенности осталась тем же — животворящим принципом любого самого низкого звена в бесконечной цепи бытия. Иначе чего бы ей, твоей душе, болеть чужой болью? Той же собаки, паучка, скорпиона… Как было больно маленькому Чарыяру, выпихнувшему руку, и больно матери его за страдания сына. Как самому тебе было больно, когда хозяин наотмашь ударил свою жену Аннабиби!
А было так. Блоквил давно подметил, что Аннабиби примерно в одно и то же время, около трех часов пополудни, разводит огонь в тандыре и начинает печь свои лепешки. Если же в это время идет мимо прохожий, Аннабиби обязательно угостит его горячей лепешкой. Таков уж обычай. Блоквил освоил многие обычаи, и этот ему очень нравился. Выглядывая из своей землянки, которая была метрах в двадцати от тандыра, Блоквил выжидал еще с полчаса, затем говорил себе: «Пора!» Набивая трубку табаком, он не спеша начинал приближаться к тандыру за угольком, как бы для трубки. А вместе с угольком всякий раз получал изрядный кусок горячей, поджаристой, ароматной лепешки. Какой хороший обычай у туркмен!
Правда, обычай требовал, чтобы прохожий отломил от лепешки лишь два куска, пусть и в пол-лепешки, остальное же с благодарностью надо было вернуть хозяйке. Но очень уж была вкусна на этот раз лепешка. Или Аннабиби улыбнулась ему сегодня очень дружелюбно, не потешалась, как раньше, над его туркменским произношением. Как бы там ни было, но только забыл про обычай Блоквил, спокойно отправился к себе в землянку. И тут же вышел Бердымурад: оказывается, он все это видел. Он подошел к жене и наотмашь ударил ее по лицу. Ударил так, что с головы ее слетел борук и упал на спину. Кусок застрял у Блоквила в горле, лепешка горькой показалась… Только вот за что ударил муж жену: за лепешку или за улыбку? — этого, пожалуй, не разгадать. Чужая душа потемки.
В своей же душе день ото дня становилось светлее. Нет, не легко было стать самим собой, вернуть утерянную гармонию. Сколько ж дней он провел здесь, в окрестностях аула, который стал ему родным? Топтал пахучую полынь, трогал нагретые солнцем камни, пытался согласовать свое маленькое дыхание с тяжелыми ритмами мира, пытался свои маленькие мысли осветить большим светом истины. Какими же мелкими, недостойными показались собственные честолюбивые мечты разбогатеть, открыть мастерскую, доживать век в праздном безделье! Разбогатеть на несчастье других людей может лишь черная душа! Он благодарен был плену, который уже заканчивался: утрясались последние формальности. Он благодарен был людям, что более года его окружали, помогли подняться над самим собой, благодарен был этой земле. Приближалось время расставания, и все чаще ходил он в степь за аулом — попрощаться. И тогда, оглушенный дикими запахами, сонным жужжанием насекомых, пением птиц, он начинал вбирать в себя неподвластное величие этого знойного неба, начинал свободно, глубоко дышать, обретая наконец ту душевную цельность и благородную полноту, какая возможна лишь в юности. Это невероятное омовение в окружающей природе, казалось, забирало все силы. Ни воля, ни ум его почти не протестовали, когда приходило: «Остаться здесь навсегда, с этими людьми, здесь мое счастье!» Позабыв обо всем на свете, развеяться в этом ветре, в этом невыносимом солнце, в запахе полыни. Никогда он еще не испытывал такой отрешенности от самого себя, от своей прошлой жизни.
И в то же время поражал сам факт своего физического присутствия. Да — он присутствует! И все. Никаких комментариев. И лишь едва заметный, как полынный пыльный запах, привкус смерти, которая ведь обязательно к каждому из нас придет. Но именно это общее сейчас и объединяло его и с этим краем, и с этими людьми, вчера еще чужими, сегодня родными уже. Тревога таяла, как утренняя тень, и вместе с этим вызревали, крепли силы отрицания.
Этот внутренний отказ, который в нем уже созрел, отказ от всяких прав, порожденных культурой, происхождением, образованием, отказ от всяких кастовых, национальных привилегий, от той же мастерской, от домика на берегу моря, — все это не имело ничего общего с отречением. Просто в этой красноватой пустыне, населенной такими же страдающими, благородными сердцами, как и у него, ничего не значат такие слова, как «преуспевание», «положение». И если он и отказывается от чего-то, так это единственно лишь во имя сегодняшнего его богатства, во имя сохранения постигнутого за эти необыкновенно длинные четырнадцать месяцев плена. Которые, оказывается, так быстро пробежали!