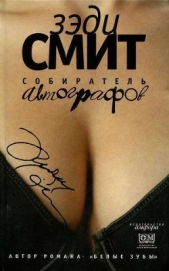Собиратель миров
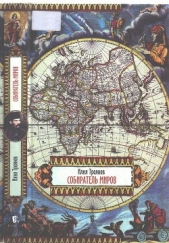
Собиратель миров читать книгу онлайн
Роман вдохновлен жизнью и трудами Ричарда Френсиса Бёртона (1821–1890), секретного агента, первого британца совершившего хадж в Мекку, переводчика Кама-Сутры и “Тысячи и одной ночи”, исследователя истоков Нила и жизнеустройства американских мормонов.
Действие детально следует за биографией его молодых лет, а порой сильно удаляется от дошедших свидетельств, домысливая увлекательную историю жизни главного героя — “образцового британца конца XIX в.”, с особой элегантностью офицера-разведчика, героя-любовника и “возлюбленного истины” несшего бремя белого человека сквозь джунгли Индии, пески Аравии и дебри Африки. Это удостоенное премии Лейпцигской книжной ярмарки (2007) произведение — индивидуальное приближение к тайне Другого, движимое желанием даже не разгадать ее, но самому обогатиться через нее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нагрянуло солнце. Оно наведет опять порядок, оно не злопамятно. Неторопливо расправляет оно свои теплые полотенца поверх лихорадочных следов ночи, с такой самоуверенностью, будто не было причастно к собственному исчезновению. Бёртон сидит у берега и глядит на рожу в воде, которая уставилась на него, как дух утопленника. Кожа отвисает от костей, глаза бешено рвутся из впадин, губы обнажают зубы, коричневые, как гнилая трясина. Спик что-то бормочет. Глаза широко распахнуты. — Как ты, Джек? — спрашивает Бёртон, мягко разминая его правое плечо. — Повсюду мертвецы, — бормочет Спик, — сделай так, чтоб они ушли, эти мертвецы. — Что за мертвецы, Джек? — Сомалийцы, мертвые сомалийцы, они не все мертвы, некоторые умирают сейчас, с поднятыми руками, растопыренными пальцами, они хотят в последний раз до чего-то дотронуться, их руки падают, и когда они умирают, скажи, чтоб они ушли, пожалуйста, путь уйдут. — Попей немного, Джек. — Никто не кричит, как невыносимо, никто не кричит, проклятые сомалийцы, как можно быть тихим во время смерти. — Давай я тебя подниму, Джек, я сниму вот это, понимаешь, все мокрое, надо снять. — Все разрушено, все палатки разрушены, снаряжение разбросано повсюду, везде, и не видно ни одного товарища, все меня покинули, они сбежали, но я не могу бежать, у меня ног нет, я могу лишь ползти. — Так хорошо, тебе будет лучше, Джек, это согреет тебя. — Я умру, сомалийцы приближаются, сомалийцы с поднятыми руками, я умру, я вижу, как из меня вытекает кровь, я вижу копья, вижу, как они в меня вонзаются, у меня столько крови, кто бы мог подумать, сколько крови, а я и не знал, бесконечно много крови. — Я тебя разотру, Джек, чтобы ты согрелся, ты слышишь, надо согреть тебя. — Напрасно все. Кровь, напрасно. Упреки, от него, одни упреки, ничего кроме упреков. Он-то сам всегда лучше, он — Бог, всегда. — Так, достаточно, давай-ка теперь наденем на тебя мою куртку, она уже почти просохла. — А он-то — вор, просто вор. Он ничем не лучше. Мой дневник, мой дневник, порезан на куски, забит, как скотина, всего лишь приложение для его книги, для его славы, моя кровь, вся кровь, для его славы, для него, моя коллекция — отдана прочь, ему все позволено, он же Бог, моя коллекция — в музей, он каннибал, да, точно, каннибал. — Успокойся, Джек, успокойся, ты среди друзей, что ты придумываешь, о ком ты, кто этот человек? — Это не человек. У него и имени-то нет, только прозвище, ругательство. И на его могиле, да будь она проклята, пусть будет написано: Дик. Ничего больше на могиле, просто — Dick.
Бёртон кладет Спика на землю. Он оглушен ненавистью, вырвавшейся у его компаньона. Недопонимания, разумеется, разница во мнениях, и даже весомая, но такой неприкрытой ненависти он не заслужил, к тому же он и сам был тяжело ранен во время того нападения, копье, пронзившее его щеку, оставило заметный след, но все же не такой глубокий, как ранение у Спика, рана его гордости. Коллекция, приложение, смехотворные упреки, да он же хотел ему сделать одолжение, никто не стал бы публиковать мелочные подсчеты какого-то неизвестного офицера, а так его педантичная работа по крайней мере в отрывках стала известна общественности, ну а коллекции гораздо лучше храниться в калькуттском музее, чем неизвестно где. Как же, каннибал, да, ему пришлось доплачивать за публикацию, он ничего не заработал, не извлек ни малейшей выгоды, что за ханжеский упрямец, растянулся здесь, а он о нем еще и заботится, заботится о здоровье этой мелочной душонки, хотя человечество прекрасно обошлось бы без него.
Спик снова уснул, и Бёртон решил заново обследовать берег. Он-то выжил, но какой в этом толк, если он не найдет своих записных книжек. Он завернул их в мешок из-под масла. Он находит множество мелочей, по большей части бесполезных, не считая ящика с сухарями и сушеными финиками. А потом, на другом берегу реки, которая теперь, после своей истерики, смущенно крадется прочь, он замечает нескольких обезьян и поначалу не обращает на них внимания, пока уголком глаза не примечает такого, что его голова дергается: у одной из обезьян в когтях мешок из-под масла, Бёртон не знает, сколько таких мешков было в экспедиции, но он убежден, что обезьяна играет именно с его мешком, где хранится все, над чем он работал годами. Бёртон ревет, он ревет громче обезьян, и они замечают его, обезьяна выпускает из лап мешок, но, словно издеваясь, его выхватывает из сучьев другая; Бёртон ревет, это не слова, это звуки запугивания, не приносящие результата, обезьяна пытается залезть в мешок, отыскала отверстие, и вот держит в лапе записную книжку, значит Бёртон не ошибся; обезьяна заинтересовалась находкой, и мешок выскальзывает из ее лап, Бёртон бросается в реку, ныряет, бьет руками, и когда выбирается на другой берег, мешок стоит прямо перед ним, словно специально подготовленный, но обезьяны пропали, лишь их крики раздаются еще недолго и пропадают, но он знает, что преследование — тщетно. Открывает мешок, пересчитывает книжки. Одной нет, но он едва осознает потерю, потому что замечает кое-что другое — влажность, а он-то считал, что мешки для масла водостойкие. Но вода — повсюду, он ощупывает размоченные черновики, и, чувствуя, как сводит желудок, открывает одну из записных книжек — строчки размыты. Не везде, какое-то читаемое ядро осталось. Как гниение, нападающее на плод снаружи, влага проникла с краев, стерев смысл верхних и нижних строк, вгрызаясь в последние буквы строки, примерно треть, и впечатление подтверждает каждая следующая книжка, которую он листает, треть его наблюдений, исследований, описаний и размышлений растворилась. Какую-то часть он реконструирует по воспоминаниям, но в воспоминании, он знает, расплывается письмо.
Сиди Мубарак Бомбей
— Бвана Бёртон никогда больше не вернулся в Занзибар после этого путешествия, говоришь ты, только бвана Спик. Разве это не противоречит всему, что ты рассказывал об этом вазунгу?
— Нет, ни в коем случае, баба Бурхан, это честь для меня, что в этот поздний час ты даришь мне столько внимания, поэтому я с удовольствием отвечу на твой вопрос. Бвана Бёртон был зависим, это я понял во время моего второго путешествия, он, как и другие вазунгу, зависел от важных господ своей страны, он не был богатым человеком, каким я его считал поначалу, он был слугой, как и я, он служил другим вазунгу, которым не хватало силы, или храбрости, или воли, или желания, чтобы самим отправиться в путешествие, и потому они выдавали деньги, чтобы люди, подобные бване Бёртону и бване Спику, отправились в путешествие вместо них. Но оба вазунгу к концу путешествия стали заклятыми врагами, и спокойствие могло царить, только если их разделяла великая вода, поэтому было очевидно, что важным господам потребуется выбрать лишь одного для второго путешествия, и хотя бвана Бёртон так много всего знал, но иногда не понимал совсем простых вещей, и умный человек бывает глупым, как ребенок. Конечно, важные господа из страны вазунгу отдали предпочтение бване Спику, потому что он выглядел как один из них, а бвана Бёртон был для них чужим — своим видом, буйно разросшейся черной бородой, все более смуглым цветом кожи, так что его уже было не отличить от араба, и одеждами, какие он носил, — всем этим он отдалялся от внешности, приятной для важных господ, от чистой, красивой внешности бваны Спика: стройное тело, голубые глаза, светлая грива волос, ничто в нем не казалось грозным и чужим. Я сам был свидетелем, как его чтили его люди в конце нашего второго путешествия, когда мы добрались до Каира и поселились в отеле, который назывался Shepheards Hotel, да, друзья мои, я проживал в том же самом отеле, что и бвана Спик, вот как он меня ценил.
— Спросите-ка его, какую комнату он получил! Тогда узнаете: ваш важный герой баба Сиди Мубарак Бомбей спал в маленькой каморке для посыльных, а его друг со светлой кожей и белой гривой, он-то спал в дворцовых комнатах на верхнем этаже.
— Ладно, мама, не перебивай, а то мы никогда не закончим.
— Вы думаете, он стал бы мне дарить на прощание свою куртку, если бы не ценил меня?