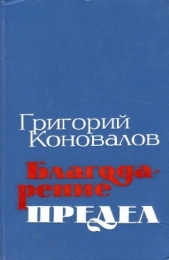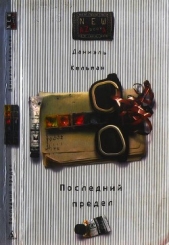Кислородный предел

Кислородный предел читать книгу онлайн
Новый роман Сергея Самсонова — автора нашумевшей «Аномалии Камлаева» — это настоящая классика. Великолепный стиль и чувство ритма, причудливо закрученный сюжет с неожиданной развязкой и опыт, будто автору посчастливилось прожить сразу несколько жизней. …Кошмарный взрыв в московском коммерческом центре уносит жизни сотен людей. Пропадает без вести жена известного пластического хирурга. Оказывается, что у нее была своя тайная и очень сложная судьба, несколько человек, даже не слышавших никогда друг о друге, отныне крепко связаны. Найдут ли они эту загадочную женщину, или, может, ей лучше и не быть найденной? Проникновенный лиризм, тайны высших эшелонов власти и история настоящей любви — в этом романе есть все, что может дать только большая литература!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Подвигин, мускулом не дрогнув, выкручивает руль налево, выбрызгивая грязь из-под колес. По тормозам ударил, и все в лесу они, великолепно-снежном, среди подводных рифов белого кораллового царства. С другой машиной, черным джипом, встретились лоб в лоб, и чувство окончания жизни, посмертного позора несмываемого, уже не к Грише — к Сухожилову мгновенно в душу вбилось.
— Красиво, тезка! — заскрипел зубами.
— Прости меня, тезка, прости, — почти беззвучно прошептал Подвигин, перед собою глядя и с искривившимся от муки, от богомерзкости того, что сотворил, лицом. — За горло он меня, за горло, не оставил выбора. Нарыл такое — каяодый суд рассмотрит, не сможет попросту не рассмотреть. Я был в долгах, в кредитах от «Самсунга»… ну, не хотели продаваться эти камеры!., вот чтоб их!., ни в какую!., и я тогда взял разработку, ну, охранную, секретную, а это нанесение ущерба, шпионаж. И все, он этим меня к стенке.
— Да понял, понял, — ответил Сухожилов в пустоту. Рванулся, ухватился за подмышку, но распрямилась мощная пружина туго сдавленного подвигинского тела; Подвигин заработал локтем, использовал приборную панель как наковальню, в сиденье тезку вбил, откинуть голову заставил. И сам откинулся назад, в руках вертел короткоствольный, с хищной мушкой револьвер, который отнял, — компактную, увесистую «барракуду».
— А у меня ребенок, Кася, ты же видел, — продолжал Подвигин, — а мать на ладан дышит, я у нее один, и если бы не она, то хрен бы он меня, конечно, но у меня — она! Она, моя Маринка маленькая! Копия! Ты должен понимать! Ну с кем она, куда ее, если меня не будет? А у нее балет, снежинки эти вот, пуанты, пачки, детство! Я ж должен ей всего себя, чтобы она счастливой, передать, а как тут после этого? Ну, не мог я иначе, не мог такой ценой!
Молчал Сухожилов и слизывал кровь с верхней губы. Синхронно распахнулись дверцы джипа, вышли двое — безликие статисты в шпионских, клоунских плащах, в карманах руки, все гуще валит снег, безмолвно, безнадежно застилая мохнатой белой пылью лобовое стекло застывшего пикапа, природа сохраняет равновесие, оцепенение, безгласность, неподвижность, безразличие к тому, какой она проснется после долгой зимней спячки, к тому, проснется ли вообще.
— Ну все, амфакинфидерзейн, пошел я, — Сухожилов шмыгнул носом, угерся рукавом и дверь толкнул. — Подвигин, — вдруг позвал.
— Не мог, прости.
— Ты это… — Сухожилов вдруг осклабился… — Давай ей, Касе, сексуальность, главное, влюбленными глазами прививай. Сам знаешь, от отца зависит. Башилов вон привил своей — аж Драбкина в бараний рог. — И дверью хлопнув, зашагал навстречу исполнителям. Подвигин впился лапищами в руль, как будто проходя последовательно все стадии дробного душевного омертвения, как будто опасаясь раздавить облатку предательства под занемевшим языком. А Сухожилов, весь составленный из одного чутья своей телесной тонкости, физической ничтожности в сравнении с той убойной силой, которая должна была его пробить насквозь, немного выждал на медленном ходу и, сжав все мышцы в упругий ком, в кошачью лапу, скакнул с дороги в лес и, раскроив, взорвав безмолвие природы, побежал сквозь сучья, сквозь валежник, так, как не бегал никогда. Как лось, как заяц, как все тварное, то петлями, то напролом, и свирепея с каждым шагом, он рвался сквозь податливое, гибкое, сухое, твердое, резиново-упругое, несокрушимое, бодливое, наждачное, сигал через барьеры поваленных стволов и выдирался из капканов цепких зарослей, расшвыривал колючие заснеженные плети и, спотыкаясь, падал, — вокруг все низвергалось белыми и рыхлыми шлепками, лавами, хрустело за спиной и впереди — вставал, глотая снег и всасывая носом кровь, — за шиворотом было мокро, как в невозвратимом детстве — и снова, продирался, спотыкался, падал и вставал — за ним никто не гнался. Жить, жить — упруго пульсировало сердце, взбухало, билось в голове и отдавалось в пятках — жить. И дальше, дальше, в гущу, в чащу, сквозь плети, лапы, сосны, ели, орешник и ольшаник, скорей, скорей, изгвазданным, иску санным, изрезанным, изорванным — живым. И вырвался вдруг на простор. В слепящую ликующую белизну обширной безмолвной поляны. Все! Жив! Неуязвим! И рубанули тотчас чем-то твердым по ноге, свалили мордой в снег, насели сверху, завернули руки — «эти».
Он не скулил, не выл, ни «ы-ы-ы-ы» не издавал, не находилось «ы-ы-ы-ы-ы», чтоб выскулить и выхрипеть вот это самое кощунственное и оскорбительное деяние Господа с недели сотворения мира. Он знал: разговора не будет; влепить ему железкой по башке — ничто, простительная шалость в сравнении экспертизой ДНК и превращением Башилова-отца в окаменелость с парой глаз и ртом. Чуть приподняли, потащили. Куда? В болото, в яму, им лучше знать, куда, — нешумным и безвидным; в воде, в зловонной жиже его тело быстро почернеет, распухнет и станет творожистым, а впрочем, не все ли равно, где именно тебя до остова проворно обглодают черви. И под ногами вроде в самом деле чавкать начинает; до нитки мокрый ниже пояса — противно. Бросили и встали. Он что есть силы вжался мордой в снег и притворился как бы уже и неживым, как в детстве перед новой, совершенно незнакомой и потому и страшной медицинской процедурой, когда прекрасно сознаешь, что будет больно, но не ведаешь, насколько. И вдруг два раза сухо треснуло, раскалывая снежное безмолвие. Что? Почему? Должно не так — его рванули вверх за шиворот, поставили, сдавили непогрешимо-неослабной хваткой горло, сквозь снег он ничего не видел, лишь жить хотел — чтоб девяносто этих вот процентов сухожиловской воды не выплеснулись тремя миллиардами своих нуклеотидов, неповторимостью аллельных состояний, эритроцитами и тромбоцитами, всем существом и — что смешное, самое смешное — и без Зои; его неповторимые нуклеотиды и в самом деле возгласили «да и бог бы с ней»; еще бабахнуло, еще, лицо ожгло, прозрел, увидел небо, туже белизну, и вдруг горячим обожгло пониже поясницы, и обезноженный, обрубком он упал и стал как червь, пересеченный надвое лопатой. И все исчезло, кроме этой боли и неспособности вообразить, узнать действительную степень постигшей вдруг его неполноты.
— Пуанты, пачки, водокачки, — бормотал Подвигин, вцепившись в руль, и руки его были уже не средоточием силы, а словно квинтэссенцией желания зарыться, спрятаться в песок. — Пуанты, пачки, водокачки. И вскинулся вдруг — словно голос послышался. Вернее, два голоса, рвавших его в разные стороны. Один — высокий, звонкий, дочкин, Касин, со смехом до слез, до икоты, с дурманящим духом горячего хлеба; другой — громовой голос долга в ответ. И два в один сошлись, раскалывая голову, и вдруг взаимосогласованно в одном неотразимо-верном направлении потянули.
Подвигин выкинул из «барракуды» барабан, обратно вставил, выскочил из тачки и побежал на хохот Каси, которую как будто Сухожилов щекотал, — как лось и свирепея с санедым шагом, сквозь твердое, резиново-упругое, податливое, гибкое, сквозь колкое, бодливое, сухое, валкое, трескучее, сквозь снег, то петлями, то напролом, как зверь по следу; хрипел и обмирал от страха, что не настигнет, не успеет, падал и вставал. Вот волокли. За ними вниз, скатился, съехал. Настиг, ствол вскинул, белым резало в глаза. Восстановил дыхание, как мог, свел мушку с целиком, подшиб, добил; второй ослепшим, снежным Сухожиловым закрылся и тоже вскинул длинный ствол; Подвигин прыгнул в сторону, упал, перекатился — полжизни за спиной, а тело, мышцы помнили, впитали навыки убийцы в себя, как в губку, — но выстрелил, скорее, наудачу. И все, лежат все трое; ужален под лопатку первый, башка второго проветрена сквозной дырой, и к Сухожилову Подвигин со всех ног, а тот лежит, не поднимаясь, в снежной жиже, Подвигин на колени перед ним, и тискать, щупать каждый сантиметр, как будто Сухожилов — потерявшийся и найденный ребенок.
— Ты, тезка, что? Нельзя! Вставай! Да что ты, что? — под спину руку протолкнул. — Да как же это я тебя? Слышь, это, тезка, ты не смей, отставить! Ну, я прошу тебя, не надо, Серый, ну, не надо! — И поднимал его рывком, тащил и падал, и снова поднимал, и снова падал, и по щекам хлестал, кривился, словно тщетно надеялся часть боли, смерти в себя принять, и снова теребил и тискал, но Сухожилов только глупо, изумленно улыбался и только становился этой стылой, безответной, так рано устланной младенческим беспамятством землей, вот этим белым беспощадным снегом, идущим в мире миллионы лет.