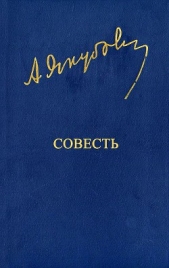Волоколамское шоссе

Волоколамское шоссе читать книгу онлайн
Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее известным и значимым произведением замечательного русского писателя-фронтовика Александра Бека. Этой повестью о героических защитниках Москвы зачитывались в тылу, она была в полевых сумках бойцов на фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в Италии — как о самом выдающемся в русской литературе произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в Военной академии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Чего тебе?
— Товарищ комбат… Нашлась Лысанка…
Поднимаю голову.
— Где же она? Как отыскалась?
Бозжанов почему-то медлит.
— Синченко привел…
— Синченко?
В памяти всплыло: желтый оскал бешено скачущей Лысанки, в седле вцепившийся пальцами в гриву Синченко, распространяющееся, как обвал, бегство. Привстаю. Душа окаменела.
— Пусть войдет!
Синченко переступил порог. Щеки были землисто-бледны. Покосившись на меня, он потупился.
— Зачем явился? — спросил я.
— Привел… — У него не хватило дыхания, он осекся. — Привел Лысанку.
— Почему ты ее не убил?
— Как так? Зачем?
— Почему бежал?
— Я не бежал… Она, товарищ комбат, осатанела. Я оборвал повод… Ничего не мог поделать.
— Почему же не убил? Пистолет у тебя был?
— Был, товарищ комбат.
— Почему не выстрелил ей в ухо? Не уложил на месте?
Синченко молчал.
— Почему не спрыгнул? Не вернулся?
— Я, товарищ комбат… Я подумал…
— Что же ты подумал? Что я был убит? Почему не смотришь на меня?
Синченко с усилием поднял голову.
— Отвечай: подумал, что я был убит? Почему же ты не вынес моего тела?
Я наотмашь ударял этими беспощадными вопросами. Ответом было лишь молчание.
— Убирайся, — сказал я. — Убирайся вон из батальона!
— Куда же, товарищ комбат?
— Куда угодно! Бросил нас в бою, так не смей к нам возвращаться! Уходи!
Синченко молча повернулся и вышел из комнаты. В штабе водворилась тишина. Лишь потрескивали пылающие дрова в печке. Бозжанов присел у открытой заслонки и смотрел в огонь. Толстунов помял в пальцах папиросу, чиркнул спичкой, закурил.
Вот негромко стукнула заслонка. Бозжанов поднялся, ушел. Минуту спустя вернулся.
— Сидит во дворе, — сообщил он.
Я не откликнулся. Бозжанов вновь вышел, вновь вернулся.
— И Лысанка привязана. Можно, товарищ комбат, дать ей сена?
— Дай:
Бозжанов выглянул в сени. Наружная дверь, ведущая из сеней во двор, была, видимо, распахнута. Он крикнул:
— Синченко! Задай Лысанке корма!
Я промолчал. Ни единым словом не противореча мне, Бозжанов боролся за судьбу коновода.
— Посмотрю, как она станет есть, — объявил Бозжанов.
Он вновь на минуту-другую исчез. Вернувшись, заговорил:
— Исхудала… Меня сразу узнала… — Не обращаясь ко мне, он продолжал: — Много раз хотели отобрать у него лошадь, а он все-таки привел ее сюда.
Толстунов тем временем расставил на столе чашки, достал из своего мешка сахар, тюбик чаю. Бозжанов опять выскочил в сени.
— Самовар готов! Товарищ комбат, можно нести?
— Можно.
Толстунов подошел ко мне:
— Комбат, чего ты такой сумный? Дай-ка помогу тебе снять сапоги.
Не ожидая ответа, он взялся за мой сапог, потянул умелыми сильными руками. Сразу стало легче. Я уже не помнил, сколько суток не разувался. В эту минуту Синченко внес кипящий самовар.
— Ставь, — сказал Толстунов. Потом окликнул коновода: — Николаша, возьми-ка портянки у комбата, посуши… Сапоги вымой…
Я молча смотрел, как Синченко взял мои портянки, темневшие сыростью в тех местах, где оттиснулась ступня. Потом он вынес сапоги. Бозжанов уже смелее крикнул ему вслед:
— Николаша, притащи дровец!
Синченко притащил дров, стал помешивать в печке. Его щеки слегка разгорелись от жара.
Толстунов сказал:
— Ты что, Синченко, не видишь? Комбат с голыми ногами. Теплые носки у него есть?
— Найду!
Минуту спустя Синченко подошел ко мне с парой носков. Я не протянул руки. Он положил их на кровать, опять занялся печкой.
Вскоре явился Брудный, за которым я послал, чтобы поставить задачу взводу разведки. Брудный лихо щелкнул каблуками, отдал честь.
И вдруг мне вспомнилось… Я сижу под накатом блиндажа, ко мне наклоняется Синченко:
«Товарищ-комбат… Там лейтенант Брудный… Ожидает вас…»
Мой коновод знает, что я выгнал струсившего Брудного из батальона, свершив над ним суд перед строем.
«Пусть войдет», — говорю я.
«Пусть войдет»… Десять дней назад — неужели всего десять? — это относилось к Брудному, опозорившему себя в бою, к этому задорному чернявому лейтенанту, что сейчас ждет моих приказаний.
Я сказал:
— Брудный, садись. Получи пачку махорки… Синченко, налей чаю лейтенанту…
Донесся едва слышный вздох Бозжанова. Так была отпущена вина коновода. О ней больше не заговаривали. Мы блюли завет: отпущенного не поминать.
В этот же день новая напасть нежданно-негаданно обрушилась на батальон.
Все мы расплатились за несдержанность в еде после четырехдневной голодовки. Люди корчились от болей в желудке. Батальон потерял боеспособность. Часовые, боевое охранение, люди в окопах, командный состав — все заболели.
Что делать? Как назло, под рукой не оказалось ни одного человека, сведущего в медицине. Санвзвод был занят эвакуацией раненых, ушел вместе с Киреевым, вместе с разжалованным в санитары Беленковым.
Вдруг меня осенило. В глаза кинулись стоявшие на полу бутыли с настойкой опия. Черт возьми, это ведь желудочное средство.
Немедленно одна бутыль была водружена на стол и раскупорена. Я налил целебной жидкости в стакан, отведал. Лекарство приятно ожгло глотку спиртом. Затем настойку попробовал Бозжанов. Он сделал глоток-другой, на лице тоже выразилось удовольствие. К снадобью приложился и Рахимов. Оно действительно оказалось целительным — боли в желудке утихли.
Я приказал раздать бутыли командирам подразделений.
— Пусть бойцы примут лекарство! Разделить его по-братски: каждому по четверти стакана!
Закончив врачевание, я прилег, незаметно уснул. Проснулся среди ночи от толчков. Что такое? Меня тормошил только что вернувшийся Киреев.
— Товарищ комбат, что вы наделали?
Не сразу удалось стряхнуть сонную одурь. Наконец стал понимать, о чем говорит фельдшер. Оказывается, я совершил страшную вещь. Людям следовало дать по пятнадцати капель настойки, а я вкатил им лошадиную дозу, то есть отравил батальон опием. Все полегли, уснули, надо было немедленно расталкивать, будить спящих, иначе они, возможно, вовсе не проснутся.
Не буду описывать, что я пережил в эту ночь. Мы — несколько командиров, фельдшер, санитары — будили, поднимали солдат, те снова валились, засыпали… И все же поутру — в медицине, как я потом узнал, известны подобные случаи — бойцы встали как встрепанные. Все выдержал солдатский желудок.
Такова была история лошадиной дозы, история, завершившая наши скитания.
14. Командир дивизии за работой
Все это, — разумеется, не так, как вам, не столь пространно, — я поведал Панфилову. Не раз он перебивал меня вопросами, добирался до подробностей.
— Список отличившихся в боях, товарищ Момыш-Улы, составить не успели?
— Составлен, товарищ генерал. Сегодня с утра занялись этим.
— Где же он? Давайте.
Я достал из полевой сумки характеристики командиров и бойцов, которых считал достойными награды. Панфилов живо потянулся к листам, начал их просматривать.
Пробежав страницу, где говорилось о политруке Дордия, Панфилов несколько раз кивнул, потом прочитал вслух:
— «Оставшись без командира роты, без связи, по собственному почину принял командование, собрал разбредшуюся в темноте роту».
Опустив лист, Панфилов взглянул на меня. Он улыбался, глаза казались хитрыми.
— Оставшись без командира, — повторил он, — без связи, по собственному почину… В этом, товарищ Момыш-Улы, гвоздь. Или, если хотите, гвоздик.
Я знал русское выражение «гвоздь вопроса». Не было невдомек, что имеет в виду Панфилов. Я спросил:
— Гвоздик чего?
— Вот этого! — От стола, уставленного чайной посудой, за которым мы сидели, Панфилов легко повернулся к другому — там во всю столешницу белела карта, испещренная разноцветными пометками, та самая, что сегодня, когда я впервые наклонился над ней, ужаснула меня. — Гвоздик вот этого, — еще раз сказал Панфилов, протянув к карте загорелую, словно побывавшую в дубильном густо-коричневом настое, руку. — Нашей новой тактики. Нового построения обороны. Вы поняли?