Полынь
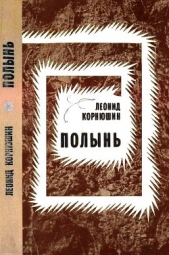
Полынь читать книгу онлайн
В настоящий сборник вошли повести и рассказы Леонида Корнюшина о людях советской деревни, написанные в разные годы. Все эти произведения уже известны читателям, они включались в авторские сборники и публиковались в периодической печати.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Низкая хата его озарялась жарко топившейся русской печью. Жена Егора, худая, высокая, с очень добрым выражением на лице, с выбившимися из-под платка волосами, ловко подкидывая ухватом, вдвигала и выдвигала чугуны.
— Ты вот, племянничек, закуси-ка пирога, — сказал Егор, пододвигая к нему жестяной противень, по краям которого ползали мухи.
— Да нет, я сыт, спасибо.
Егор отодвинул противень, засмеялся ему в лицо и промолчал.
— Не приставай, малец, вишь, брезговает, — встряла жена Ляхова, одновременно как бы и извиняясь за то, что не совсем чисто, и в то же время давая понять, что слишком чисто бывает у тех, кто ничего не делает.
— Ей-богу, я только что позавтракал, — сказал Иван, краснея оттого, что она так прямо выразила его состояние.
Провожая студента к концу сада, Егор протянул ему жесткую руку и, глядя своими оголенными зрачками в одну точку, сказал:
— Не вся та жизнь, брат, что в высоком-то окне.
Иван не понял, что значила эта фраза, но чувствовал, что она отвечала на какой-то важный вопрос жизни, смысл которого был неясен ему. И слово «племянничек», прозвучавшее явно иронически, было, очевидно, исполнено того же смысла. И, испытывая неосознанную еще враждебность к этому сторожу, к его хориной, ничтожной, как он считал, жизни, выходя из сада, Иван бормотал:
— Сгниешь — и ни одна душа не узнает. Несчастный пропойца. Нашелся философ! — И, однако ж, чувствовал, что бормотал-то от уязвленного самолюбия и бессилия своего.
То же самое было и сейчас, при разговоре с дядей. Тот же, что у сторожа, склад мысли его разбивал логику ума Ивана, как ни напрягался он в усилиях доказать что-то. И, заметно обескураженный и будто ущемленный, он проговорил:
— Идейный ты, дядя Василий!
— Да и у вас, у ребяток, зубенки острые, как шилья. Будь здоров, попадись на них! Вот ты за косьбу себе уже медаль спрашиваешь. Косьба-то у тебя, оказывается, особенная — геройская! Покуда рановато, племяш, похарчись тут годиков двадцать. — Василий Федорович вдруг словно опомнился и укорил себя за суровость, он мягко улыбнулся, этим показывая, что злобы у него на душе не было, но и особой доверчивости тоже. Он сел в телегу и стал разбирать вожжи, но в это время из-за поворота на настил моста выехала, бренча ошинованным ходом, подвода возвращающихся с ярмарки деревенских. Сзади телеги шла привязанная медно-красная, с обломанным рогом, мелкой степной породы корова-первотелка. Бодров и Агеев были заметно навеселе. Когда они остановились и вылезли из телеги, Агеев спросил:
— Глянь-ка, Василий, как на твой глаз?
Осмотрев зубы и пощупав пахи коровы, Василий Федорович похвалил:
— Должна быть молочной.
На крыльцо мельницы, содрогающееся от жерновов и забитое мучной пылью, вышел заведующий, человек лет пятидесяти пяти, на совершенно белой, с медным ободом на конце, деревяшке. Он был в белой фуфайке, из-за которой виднелся ворот красной фланелевой рубахи.
— А, Михайлович! — улыбнулся Агеев. — Ну как, не закрыли твою контору пока?
— Пробовали, дураки, да учли, что в день перемалываю десять возов. Не так уж мало, — сказал заведующий.
— А ведь шпыняли тебя в местной-то газете! — крикнул Бодров.
— Мало ли чего было… Вы не ко мне?
— Нет, мы проездом, брат: у нас нынче покупной хлеб, сельповский.
— А-а, — заведующий ухмыльнулся, — сувалковскую пекарню я знаю: скулья свернет от того хлебца. Избави бог.
— Дрянь пекет, это ты в точку высказал. — И, когда заведующий, позевывая, исчез в дверях, Агеев повернулся к стоявшему в отделении Ивану и спросил: — А что малец кислый?
В глазах Василия Федоровича промелькнула бесхитростная тень усмешливости.
— Собрался, вишь, кинуть ученье за ради деревенской жизни.
— Тю! — протянул Бодров. — А что так малому приперло?
— Да он пока это шутейно, — заступился Василий Федорович, непонятно подмигивая Ивану одним глазом.
— Коль вон бороденку решил отпущать, тут ничего такого странного не может быть, — сказал уверенным тоном Степан. — Хотя она, конечно, совсем другого сорту, — добавил он с той добродушной искренностью и простотой, что не любил Ельцов в людях, считая это невоспитанностью и грубостью.
Он хотел сказать что-то уничтожающее и едкое, желая высмеять прямолинейность Бодрова, но не произнес ни слова, и до самой деревни они молчали.
На другой день Иван уезжал в Москву. Василий Федорович вышел проводить его до ворот. Он подал свою бугристую черную руку, испытующе, строго и вместе с тем ласково глядя в лицо племянника. Очень серьезно и очень памятно сказал:
— Ты вот что, Иван… Заканчивай свой университет, и поскорее — к делу. В городе, деревне ли, но — к делу. Не то так и останешься для всех людей только племянником. Не сыном, слышь, не братом, а племянником. Так-то. Страшная эта, брат, роль — болтаться поплавком посеред жизни. Ищи в себе крепость, люби людей. Горе ехидному и злому. Сегодня ты такой милый и безобидный, а завтра ты уже презреешь саму черную работу. Потому как всякую работу на пользу людям делают с душой. Презревший же ее — жалок и одинок, у жизни — раб. У нас в государстве грамотные люди, интеллигенция, давно с народом разделили пополам судьбу. Одним, брат, все хлебцем кормимся — и Отечество у нас одно, любить его надо, другое нам не выпишут. Боже избавь остаться на обочине. Хочу, племяш, верить я в тебя!
Иван ехал в Москву со странным и смутным чувством неопределенности и неясности. Значение этого своего чувства он не понимал хорошо. Но ему представилось вдруг что-то титаническое, не имеющее границ, совершающееся на его глазах, и ему было стыдно и не по себе оттого, что во всем этом он пока что не принимал никакого участия. Он чувствовал свою вину и чем больше осознавал ее, тем определеннее видел эту неизмеримость жизни, бегущую мимо него.
РАССКАЗЫ

Три мешка пшеницы
На шесте около землянки закричал единственный в деревне петух. Петух был такой ослабевший за голодную зиму, что едва удержался, прислушиваясь и, должно быть, ожидая привычного такого же повторного и радостного крика пробуждения. Но ему никто не отозвался. Было тихо и грустно. Только слышались глухие смутные шорохи холодного зимнего ветра в будыльях сухого летошнего бурьяна, торчавшего над снегом возле землянок. Высоко в шафранном небе одиноко и задумчиво стоял, угасая, над дремлющими немыми полями, над сожженными деревнями и над идущей бог знает в какие земли дорогой светлый месяц. В небе заметно светлело; восточный величественный склон окрашивался нежной малиновой акварелью; синие сугробы снега ловили розовые блики игравшей молодой зари. Околицей, возле поваленных тынов, ходким шагом по убитому насту прошел куда-то голодный волк. Волк был старый, с поджарым, пустым брюхом. Он вытянул на ветер острую пасть и долго стоял и слушал. Но в деревне по-прежнему не было ни звука жизни, словно все вымерло совсем; не было также знакомых запахов скотных хлевов и овчарен.
Но в это время где-то гулко стукнула примороженная дверь, послышались скорые шаги и говор. Волк пригнул голову, сузил желтые глаза, всматриваясь. Трое баб, приминая лаптями снег, вышли в проулок. Волк еще больше поджал брюхо и, быстро работая ногами, поддал в поле, за которым сквозил и менял свои очертания во мгле далекий лес.
Передняя баба остановилась, задохнула полную грудь чистого и пахучего воздуха, зачерпнула рукой снега и стала его глотать.
— Кажись, перезимовали! — сказала она.
— Народ живуч, — неясно и радостно улыбаясь, сказала другая баба.
— А ить чуток не померли, — сказала высокая и очень худая третья.
— Председатель, кажись, мальцов посылает за семенами в уцелевшее место.
— Что ж, они у нас мужики, — сказала, посмеиваясь, первая баба.

























