Только один человек

Только один человек читать книгу онлайн
Гурам Дочанашвили — один из ярких представителей современной грузинской прозы. Ему принадлежат рассказы, повести, романы, эссе. Русскому читателю Г. Дочанашвили знаком по книгам «Там, за горой», «Песня без слов», «Одарю тебя трижды» и др.
В этой книге, как и в прежних, все его произведения объединены общей темой — темой добра, любви, служения искусству. Сюда вошли как ранние произведения писателя, такие, как «Дело», «Человек, который страсть как любил литературу», «Мой Бучута, наш Тереза» и др., так и новые — «Ватерполоо», «И екнуло сердце у Бахвы» и т. д.
В исходной бумажной книге не хватает двух листов - какой-то варвар выдрал. В тексте лакуны отмечены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Днем ли, ночью ли, пополудни или после обеда, вечером или на рассвете — в любую минуту бодрствования — Бесаме копил силы, чтобы суметь побольнее ущипнуть кого-нибудь теми самыми тремя пальцами, которыми он крестился в маленькой сельской церкви; теперь в минуты, когда никто на него не смотрел, он, забив почти до самой шляпки в стену коровника большущий, толщиной чуть не в палец, гвоздь, сжав зубы и дрожа от напряжения всем телом, теми самыми тремя пальцами вытаскивал этот неподатливый гвоздь обратно, а потом снова забивал.
Если с бассейна не доносилось могучего рева луженых глоток еще не виденной Бесаме старшей группы, он к ночи тайком туда пробирался и плавал, плавал до изнеможения, со злобным ожесточением рассекая воду. Он втаскивал в гору огромные валуны и, хоть и сгибался вдвое под их непомерной тяжестью, но ни разу не дрогнул, не отступился и непреклонно выполнял поставленную переда собою задачу — донести неслыханный груз до заранее намеченного в уме дерева, а потом, пустив валун под откос, ничем более не обремененный, широко расправлял плечи и дышал на вершине холма полной грудью, сильно, мощно, глубоко.
А в какой-то день он явственно почувствовал, вроде бы в теле у него угнездились маленькие мышата, особенно в конечностях, — если он с силой сжимал кулак и напрягал руку по всей длине, от запястья до плеча, то внутри, в руке, что-то всякий раз безотказно и беззвучно, как мышь, начинало бегать — это были мускулы.
Но те четыре питомца, тесно связанные воедино, пока были все еще сильнее его, и Бесаме частенько бросался улепетывать от них к бортам, нет-нет поглядывая за спину, и если, бывало, кто-нибудь из четверки оказывался намного ближе других преследователей, Бесаме вдруг стремительно подплывал к нему и, орудуя теми же самыми своими тремя пальцами, быстренько доводил его до «ой,Я мама!», и поэтому из предосторожности те старались держатьсв кучкой, не разбивая четверки. Вот вам и квартет. При упоминании» слова «квартет» Афредерик внезапно вспомнил, что однажды наших восстанавливаемых погнали, словно овечье стадо, в консерваторию: там их вне очереди впустили на экзамен, и, быть может, вы помните, был такой Картузо-ага Бабилония, который в самом светлом зданий Алькараса обучал темной истории, так вот, он самый долго разглядывал Бесаме с придирчивостью покупателя и под конец спросил:
— Какое самое большое поражение потерпел человек?
Ну и времена настали! Заядлый бонапартист не посмел назвать вслух Наполеона «величайшим» — неловко, так или иначе он — враг родины... однако, упорствуя в своем бесстрашии, он, говоря «человек», всегда в глубине души подразумевал эпитет «величайший». Ох уж это бесстрашие! — одно только оно заставляло Картузо не иначе, как в таком плане, думать о Бонапарте, а ведь это здорово, не правда ли?!
Да и только ли одно это! Однажды, знакомясь с неким высокопоставленным лицом, тоже не без посредства Мергрет Боскана (так звали жену Бабилония), синьор Картузо прижался губами вместо кожи руки к перстню, вот каким человеком он был! Все ж таки, что ни говорите, а гордая испанская кровь это вам не хухры-мухры. А теперь, когда он спросил у Бесаме вот так: «Какое самое большое поражение потерпел человек?», тот, отвернувшись к окну, ответил:
— Ватерполо, сэр.
— Как? — переспросил монсиньор Картузо-эфенди, приспособив ладонь к уху — он был не в ладах со слухом. — Как ты сказал, а?
— Он сказал ватерполо, герр, — услужливо гаркнул, предавая однобассейнца, Тахо, да так перестарался, что у него аж пуговица отскочила.
— Разумеется, — весь расплылся Картузо, — разумеется, Ватерлоо. — И тут же добавил: — Обоим пишу «хорошо», идите.
— Я хочу «отлично», — заканючил Тахо.
Бесаме уже смело справлялся с любым дуэтом. Одного лягнет пяткой в живот, другому одной рукой стиснет горло, а другой, свободной рукой в это время с самым невинным видом приглаживает себе шевелюру. «Ну довольно, хватит — не ты же народил его на свет! — кричал ему сверху Р. Д. Ж. Рексач. — Что ты ишак, это всем известно, но он же не ишачий сын. Вылазь из воды, Хюан, и передохни».
Когда, раздеваясь, Бесаме взглядывал в запотевшее зеркало, то его удивленному взору представал какой-то грозный и горделивый атлет, вперивший в него тяжелый, устрашающий взгляд. Да что там какой-то, — Афредерик Я-с тут немного слукавил, — не какой-то атлет это был, а сам Бесаме, это самого себя видел он в зеркале, ведь кого же и увидеть, как не самого себя, если ты один стоишь прямо перед зеркалом!
«Давай выходи из воды, слышишь, Каро?! — гремел то и дело человек-наковальня Рексач. — Ты что себе воображаешь! Я же за них как-никак в ответе... Тебе очень больно, птенчик мой Франсиско?»
Сказать вам правду? Теперь Бесаме управлялся уже с целым трио, да еще так управлялся, что ему самому становилось жалко их, беспомощно барахтающихся, с вылезшими на лоб в ожидании страшной боли глазами. Он их даже порой щадил. При этом человек-чугун Рексач тренировал нашего Бесаме в стороне от других восстанавливаемых, в углу бассейна, наставляя всех вместе следующим образом: «А ну, голубочки, сильнее замах ногой, и тут же на лице самая блаженная, самая добродетельная улыбка, слышите, ослы? Джанкарло, конфетка моя, а ну постарательнее замахнись ногой, в то же самое время изо всех своих ублюдочных сил ущипни воду и напусти на лицо свое такое выражение, словно ты видишь перед собой пестреющую цветами лужайку со звенящими ручейками и соловьиными трелями, бархатистых павлинов, сирень, то, другое, третье, словом, размажь по физиономии мед...»
А в один, так сказать, ну, в общем, самый обычный день, только с незначительной переменной облачностью, черед дошел и до плюгаво го музыканта:
— Поди сюда, сморчок, и слушай меня.
У края бассейна сутулился мальчик со скрипкой в руке.
— Небось успел положительно подучиться?
— Да-с.
— Полный ответ, свиной хрящ.
— Я за это время успел хорошо подучиться, дядя Пташечка.
— Тогда сыграй мне какие-нибудь там штучки-мучки, самые нежненькие и красивенькие — такие, чтоб морды у моих мулов засветились одной чистотой и негой.
Влажный воздух пропитался звуками скрипки.
— Кто это?
— Это Бах, с вашего позволения, дядечка.
— Нет, не годится, одна тоска, тягомотина какая-то, — ответив Рексач, ведь и он тоже кое в чем разбирался, — сыграй другое... А это кто же?
— А это, дядь, с вашего позволения, Бетховен.
— Нет, это ни к черту, чересчур мощное, а я хочу таких звуков, чтоб на лица моих голубчиков легла печать умиления. Ну, давай дальше, шпендрик!.. А это кто же был?
— Это, с вашего позволения, была одна из мелодий Россини!
— И это тоже не годится что-то слишком легкомысленное — чирик-чирик, тра-ля-ля. Новое, новое что-нибудь... Э, это я уже слышал.
— Это Гендель.
— Так ты же его сыграл первым.
— То был Бах.
— Ну, этот того же поля ягода, скукота. Попробуй кого-нибудь еще.
На этот раз человек-железо Рексач чуть не растаял и не влился в воду бассейна от ужасающего блаженства:
— Ойии! Ойии! Уух ты, милашечка! А это кто же? Зверь, настоящий зверь!
— Это, с вашего позволения, был Мендельсон, дядюня!
— Грандиозно! А из какого это мотива?
— Это, с вашего позволения, вступительная часть скрипичного концерта Мендельсона, сэр.
— Я тебе дам «сэр», балда стоеросовая, ударь то же самое, душка.
— Во дает! Ну, ребятки, вы же слышите, сукины дети, что это за миронская музыка! Разнежься, Франсиско! И ты, Джанкарло! Я должен видеть у тебя на харе свет блаженства! О-о, что за музыка — в сорок яичных сил, с зеленью и прочее... Хюан, козья голова, взирай с умилением, не хлопай глазами, как олух, май дарлинг! О альма миа, расплывитесь в неге... Бесаме, мальчик, сомкни крепко-накрепко гляделки от блаженного умиления. Я тебе говорю! Так, дорогой, изобрази, что ты подавлен свалившимся на тебя счастьем, во-во, так и держись на поверхности воды. Браво, ты в этой жизни не пропадешь! Но знай, если ты теперь приоткроешь хоть один глаз, а тебе двину в зубы, блаженствуй и будь счастлив, мон шер ами. Вот таак, хорош, вот таак!
![Сатанстое [Чертов палец]](/uploads/posts/books/150862/150862.jpg)
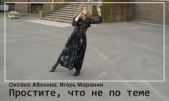
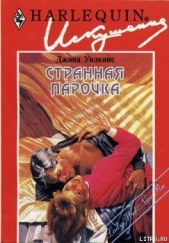
![Там, за поворотом [СИ]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)






















