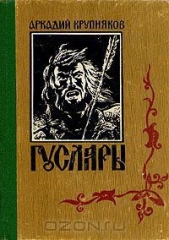Большой марш (сборник)

Большой марш (сборник) читать книгу онлайн
В книгу известного воронежского писателя Юрия Гончарова вошли рассказы, в большинстве которых запечатлена биография поколения, чья юность пришлась на время Великой Отечественной войны. Художнический почерк писателя отличает реалистически точная манера письма, глубина и достоверность образов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поняв, что она больше не заснет, Прасковья Антоновна, не зажигая света, поднялась, оделась. Занять себя ей было нечем, – присела на край кровати.
Прозвонили куранты Спасской башни. Каждый звук рождался точно первозданно – так был он чист, свеж, и так чиста, свежа была вся мелодия, которую они проиграли.
Разные мысли текли в голове Прасковьи Антоновны, вспомнилось, что замок на ридикюле слабо закрывается, хотела сходить в Ольшанске в мастерскую, поправить, да в хлопотах забыла; плащ тесноват, жмет под мышками, надо было другой брать, не этот, бежевый, а темно-зеленый, тот сидел лучше, свободней, да Олимпиада Григорьевна сбила: как же, нехорошо получится, нельзя – шляпа темно-коричневая, надо, чтобы и плащ был в тон, гармонировал…
Мысли эти, появлявшиеся сами собой, вызывали досаду своей мелкостью, ненужностью, они были уместны дома, при сборах, а сейчас, уже на середине дороги к сыну, не о том надо было бы думать, не такими занимать себя пустяками… Прасковье Антоновне захотелось вспомнить во всех подробностях тот последний день, что Леня был еще дома, как с толпою таких же призванных его повели от военкомата на станцию, к товарному поезду, по пути, каким уже прошли многие толпы ольшанских мужчин и юношей, и потом повезли куда-то, куда увозили всех мобилизованных. Наверное, в этот день, в последние отпущенные ему и ей часы и минуты надо было только глядеть в лицо, в глаза сына, вбирать в себя, в свое сердце его черты, каждую его ресничку, каждое движение его губ, глаз… А она эти последние часы потратила на кухонную возню, провела у горячей плиты, чтоб наготовить Лене в дорогу побольше всяких домашних припасов: булочек, пирожков, – как старались сделать это и все другие ольшанские матери, точно это было самое главное, самое важное при расставании с сыновьями…
Глухая боль заныла, защемила под сердцем. Как же давно это было, в какой дали остался тот жаркий июльский день, с пекущим солнцем, серыми от пыли лопухами вдоль булыжного шоссе к станции… Сколько потом прожила она одна! Зачем, для чего был отпущен ей такой срок? Не случайно же распорядилась так судьба. Может быть, только затем, чтоб дождаться момента, что предстоит ей впереди – выплакаться наконец и за себя, и за других матерей, кому война вместо сыновей вернула одни лишь бумажки похоронных извещений, у безмолвного холмика могилы, принести к нему – ибо больше некуда ее нести, нет в мире для нее другого места, пристанища – свою безмерную тоску, единственное, чем стали для нее эти бесконечно долгие, ненужные ей, как бы остановившиеся без движения тридцать лет…
Больше часа протянулось вот так – в тишине, светлом полумраке комнаты, с мерцанием огней за окном, зашторенным прозрачной гардиной. Кремлевские куранты прозвонили еще раз, – столица спала, но главные ее часы несли свою службу.
Дома, в ночную пору, когда Прасковью Антоновну посещала бессонница, она разогревала на керосинке чайник, садилась к столу, думала свои думы, перебирала прошлое и так коротала время до рассвета. Сколько было у нее таких одиноких чаепитий, особенно в длинные зимние ночи, под шуршание метели по стеклам, под вой ветра в печной трубе…
По привычке ей захотелось чаю, она не пила его с самого Ольшанска. Пачка заварки есть в чемодане, есть и мед, сушки. В гостиницах для постояльцев должны держать кипяток. Время неурочное, но, может быть, ей все же не откажут, дадут?
Она вышла в освещенный коридор. Он тянулся далеко в обе стороны, Прасковья Антоновна пошла по мягкой дорожке мимо одинаковых дверей из темного блестящего дерева.
Коридор, ковровая дорожка, делавшая неслышными шаги, вывели ее на небольшую площадку. Там стоял стол с ярким бело-матовым шаром горевшей лампы. За столом сидела пожилая женщина в пенсне – дежурная. Стеклышки, сверкая отраженным светом лампы, неодобрительно, как показалось Прасковье Антоновне, направились на нее. Глаза женщины были неразличимы, прятались за бликами, а лицо было оплывшее, с оттянутыми мешочками по сторонам подбородка.
Прасковья Антоновна поняла уже, что просьба ее будет бесполезной, здесь не районный Ольшанск с его простотой и добродушием нравов, быта, не та эта гостиница, не тот тут порядок, чтоб беспокоить дежурных по таким поводам. Но дежурная смотрела, ожидая, и Прасковья Антоновна была вынуждена все-таки робко спросить:
– Нельзя ли кипяточка?
– Что вы, какой кипяток, второй час ночи!
Это сказано было тоном, каким встречают лишь несообразные, нелепые причуды.
– Чаю попить хочется… – проговорила Прасковья Антоновна, искренне устыжаясь своего действительно, как она уже это вполне чувствовала, нелепого, смешного желания.
– Вздумали среди ночи! Вот откроется утром буфет – тогда и попьете.
– Да буфет мне не нужен, мне бы просто кипяточку стакан… – Прасковья Антоновна уже не просила, ей только хотелось как-то оправдаться перед строгой дежурной.
– Где же его для вас взять? Это раньше когда-то, при царе Горохе, кипятильники в гостиницах стояли, а теперь обслуживание культурное. Только через буфет.
Дежурная была та самая, что и днем, когда Прасковья Антоновна приехала. Журналисты брали у нее ключ, она говорила с ними очень даже любезно, улыбаясь, пенсне ее тогда сверкало совсем по-другому – заодно с ее улыбками, блеском искусственных зубов. Но она, видать, понимала разницу людей и тоже делала им свои различия. Журналисты – это было одно, какого они ранга люди – это она уловила, почуяла с первого взгляда; Прасковью Антоновну опытные ее глаза видели тоже насквозь, кто она и откуда. И на таких, похоже, у нее было не принято расточать свою вежливость.
Прасковья Антоновна все это поняла, но сердце ей томила тоска, ей было маетно, неуютно в своем одиночном номере, это чувство усиливалось от огромности всего здания, где все так богато и дорого отделано, но в то же время как-то так, что будто и не человеческими руками, радует глаз, но не греет души, ее тянуло с кем-нибудь поговорить, все равно с кем, лишь бы с живым человеком, хотя бы даже с этой нелюбезной, без всякого человеческого тепла, женщиной. И потому она, вместо того чтобы уйти, в нерешительности, в неловкой для себя заминке стояла у столика.
– Боюсь вот проспать… В шесть мне уже ехать… – произнесла Прасковья Антоновна – опять как бы извиняясь перед дежурной, теперь уже за то, что не уходит, торчит перед ней, перед ее казенным полированным столом, внушающим всем своим строгим видом, что перед ним полагается задерживаться только по делу, и то – ненадолго.
– Вы из какого – из девяносто третьего? – Дежурная поглядела в свои бумажки. – Нечего вам волноваться. Про ваш отъезд записано, идите себе, спите, полшестого вас разбудят по телефону.
– Да все-таки как-то беспокойно… Вдруг телефон испортится или забудут…
– Такого не бывает, – сказала дежурная с просквозившей насмешливостью над провинциальными опасениями Прасковьи Антоновны.
На полу, рядом с тумбочкой по левую сторону от стола, – Прасковья Антоновна только сейчас это заметила, – блестел никелем электрочайник со шнуром. Казенный, чтоб дежурные по этажу, не покидая своего места, могли позавтракать, попить чаю, если захочется… Значит, обманула ее дежурная, сказавши, что негде сейчас взять кипятку, просто не нашлось у нее доброты. А ведь ей стоило только протянуть руку, воткнуть штепсель в розетку… Прасковья Антоновна ничего не сказала вслух. Она будто даже не заметила электрочайника. Мало ли почему дежурная промолчала про него. Может, им не велено угощать постояльцев, есть какие-нибудь правила на этот счет, – служебная, дескать, вещь, только сотрудникам, не для всеобщего пользования…
Все же у Прасковьи Антоновны получилась заминка, неловкая, продолжительная пауза. Дежурная не поддерживала разговора, и нельзя было ждать от нее сочувствия, но Прасковья Антоновна все-таки поделилась с ней еще одним своим страхом:
– Вы не знаете случайно, на самолете сильно укачивает? Боюсь вот, никогда не летала. Даже на этих, на маленьких, что почту возят.
– Все живы остаются, – сказала дежурная. – С Дальнего Востока прилетают – и ничего.