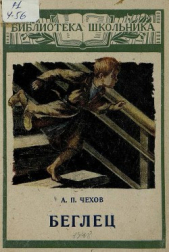Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)

Одарю тебя трижды (Одеяние Первое) читать книгу онлайн
Роман известного грузинского прозаика Г. Дочанашвили — произведение многоплановое, его можно определить как социально-философский роман. Автор проводит своего молодого героя через три социальные формации: общество, где правит беспечное меньшинство, занятое лишь собственными удовольствиями; мрачное тоталитарное государство, напоминающее времена инквизиции, и, наконец, сообщество простых тружеников, отстаивающих свою свободу в героической борьбе. Однако пересказ сюжета, достаточно острого и умело выстроенного, не дает представления о романе, поднимающем важнейшие философские вопросы, заставляющие читателя размышлять о том, что есть счастье, что есть радость и какова цена человеческой жизни, и что питает творчество, и о многом-многом другом.
В конце 19 века в Бразилии произошла странная и трагическая история. Странствующий проповедник Антонио Консельейро решил, что с падением монархии и установлением республики в Бразилии наступило царство Антихриста, и вместе с несколькими сотнями нищих и полудиких адептов поселился в заброшенной деревне Канудос. Они создали своеобразный кооператив, обобществив средства производства: землю, хозяйственные постройки, скот.
За два года существования общины в Канудос были посланы три карательные экспедиции, одна мощнее другой. Повстанцы оборонялись примитивнейшим оружием — и оборонялись немыслимо долго. Лишь после полуторагодовой осады, которую вела восьмитысячная, хорошо вооруженная армия под командованием самого военного министра, Канудос пал и был стерт с лица земли, а все уцелевшие его защитники — зверски умерщвлены.
Этот сюжет стал основой замечательного романа Гурама Дочанашвили. "Дo рассвета продолжалась эта беспощадная, упрямая охота хмурых канудосцев на ошалевших каморрцев. В отчаянии искали укрытия непривычные к темноте солдаты, но за каждым деревом, стиснув зубы, вцепившись в мачете, стоял вакейро..." "Облачение первое" — это одновременно авантюрный роман, антиутопия и по-новому прочитанная притча о блудном сыне, одно из лучших произведений, созданных во второй половине XX века на территории СССР.
Герой его, Доменико, переживает горестные и радостные события, испытывает большую любовь, осознает силу добра и зла и в общении с восставшими против угнетателей пастухами-вакейро постигает великую истину — смысл жизни в борьбе за свободу и равенство людей.
Отличный роман великолепного писателя. Написан в стиле магического реализма и близок по духу к латиноамериканскому роману. Сплав утопии-антиутопии, а в целом — о поиске человеком места в этой жизни и что истинная цена свободы, увы, смерть. Очень своеобразен авторский стиль изложения, который переводчику удалось сохранить. Роман можно раздёргать на цитаты.
К сожалению, более поздние произведения Гурама Дочанашвили у нас так и не переведены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жоао Абадо, издали заметив высокомерного незнакомца, воскликнул, ошеломленный: «Это еще что за чучело!..»
Сухопарый, долговязый молодой человек, ступавший, как цапля, в эту жару был в желтом бархатном плаще, изящно оттянутом сбоку обнаженной шпагой, плащ так и переливался на солнце, сапоги блестели — слепили. Шляпу с широченными полями украшало павлинье перо, на груди ярко сверкали три драгоценных камня.
Оторопели канудосцы — такую птицу видеть не доводилось. Он же безмятежно и удовлетворенно озирал окрестности, и не успел угрюмец Жоао раскрыть рта, как пришелец, опередив его, гаркнул:
— Предъявите ваши документы! — И так же неожиданно улыбнулся опешившему Жоао: — Шучу, дядюшка... Я в Канудосе?
— Где же еще, по-твоему?
— В добрый час приход мой... Какая у вас принята форма обращения?
— Конселейро называет нас братьями.
— В добрый час приход мой, братья, — и, положив левую руку на эфес шпаги, правой снял шляпу, галантно опустил до колен, очертил в воздухе невидимый круг и, чуть выставив ногу, поклонился. — Примите меня, братья.
— Каким ремеслом владеешь?.. — Жоао с неприязнью смерил его с головы до ног.
— Я — кабальеро.
— Чего, чего?!
— Кабальеро.
— Кто, кто, пропади ты пропадом?! — Жоао издевательски подставил ухо — получше расслышать.
— Кабальеро.
— Кабальеров не хватало нам тут! — грубо отрезал Жоао. — Все мы, кого видишь, пастухи да крестьяне.
— И не угодно иметь одного иного?
— Нет, не угодно!
Сказал Пруденсио, потерявший братьев, враждебно смотрел он на человека в богатой одежде. И пришелец подобрался весь, и недобро просверкнули глаза.
— Надо принять, — раздался голос. Мендес Масиэл смотрел куда-то в сторону. — Всякого, кто придет, надо принять, запомни, Жоао.
— И этакого?
— Да, и такого.
Пришелец опустился на колено и, тоже глядя в сторону, сказал:
— Весьма признателен, конселейро.
То, что гордец преклонил колено, немного смягчило Жоао, и он спросил свысока:
— Умеешь что-нибудь делать?
— Да, разумеется. — И быстро встал. — Однако попрошу вас обращаться на «вы», со временем, постепенно, возможно, и позволю перейти на «ты».
— Не надобен нам такой, нет! — взорвался Жоао. — На кой нам этот франт, это чучело.
— Какой есть, — медленно проговорил конселейро, по-прежнему устремив взгляд в сторону. — Продолжай.
— Ремеслом владеете?
— Кабальеро пред вами, братья.
— Может, капусту умеешь сажать?..
— Ах нет, нет.
— Пахать-сеять?
— О нет,— замахал рукой кабальеро.
— Может, наездник хороший...
— О, — кабальеро просиял. — На скачущего коня лягу и засну.
— Ваше имя?
— Дон Диего.
— Чего?!
— Дон Диего, то есть господин Диего, от иностранного слова «доминус»...
— Вот, говорил же! — в отчаянии вскричал Жоао. — Говорил же, не подойдет он нам, на кой черт сдался нам господин!
Но Мендес Масиэл задумчиво смотрел в сторону.
— Скажу вам и главное, — спокойно продолжил дон Диего. — Прекрасно знаю — борьба у вас впереди, но в бою на меня не рассчитывайте. Не стану биться с врагом как один из рядовых. Прошу извинить, мои новые братья, но воевать с вами плечом к плечу не буду. Не пристало мне с моим умением, с моими способностями, сражаясь сразу с четырьмя каморцами, получить в спину шальную пулю, пущенную в одного из вас. Зато, милостивые братья, вы можете поручить мне труднейше-сложнейшее дело, скажем — уничтожить отряд, рыщущий по вашим следам. С превеликой охотой выступлю против целого отряда, так как в этом случае за все в ответе будет лишь моя благородная голова.
— Совсем ничего не умеете? — упавшим голосом спросил Жоао.
А дон Диего приосанился и ответил:
— Владею языком всех птиц.
— Ха! — Жоао так и передернуло. — Потешать нас явился?.. Одно шутовство за душой?
— О нет, кое-что иное, скажем, вот это — приобретете оружие, — и он снял с груди один из сверкавших камней, положил к стопам конселейро. — И еще нечто, вам вовсе неведомое, чуждое.
— Что же? — Жоао поправил бумагу на колене.
— Артистизм.
— Что-о?
— Артистизм, милостивые братья, — невозмутимо повторил дон Диего. — Мне ничего не стоит пройти сквозь игольное ушко. — И усмехнулся: — Разговорился я что-то, а теперь можете обращаться ко мне на «ты», мы достаточно сблизились.
— Тогда ступай и начисть картошки, — снисходительно разрешил Жоао.
Дон Диего страдальчески искривил лицо.
— Нельзя ли что-либо другое, на это я не способен. Нарублю дров, воды натаскаю, глину буду месить...
— Нет, — заартачился, сердясь, Жоао. — Сказал — начисть картошки.
— Подумайте, дяденька: кабальеро — и чистить картошку!
— Ничего не хочу слышать! И вовсе не дядя я тебе. Меня Жоао звать.
Дон Диего удрученно помолчал, потом сказал:
— Дайте мне тряпку... дядя Жоао.
— Нож?
— Ножей у меня семь. Тряпку.
— На кой тебе тряпка?
— Что, трудно дать?
Дон Диего безропотно направился к куче картофеля, брезгливо держа двумя пальцами тряпку. Попозже, когда вспомнили о нем, его и след простыл. Возмущенные, они обежали все окрест — исчез кабальеро, и Жоао кричал, негодуя:
— Говорил я — прогоним! Кто другой удирал, да еще в первый же день! Убить его мало! Предаст нас, укажет сюда путь!
Но часа через два дон Диего объявился, он шел несколько грузно, под мышкой у него торчал капрал Элиодоро с тряпкой во рту.
— Он начистит картошки, — сказал дон Диего онемевшему от изумления Жоао и бросил капрала на землю, не удостоив и взгляда. — Не все ли равно кто? Он у меня перевыполнит задание.
Доменико, скитальцу, чего-то хотелось, к чему-то тянуло неясно...
В вечном страхе, в тревожных думах, в пугающих сумерках накатывало неясное желание, но чего — не знал. И постоянно мерещился взгляд свинцово-пепельных глаз Мичинио, сверлил затылок, леденил спину, и он переворачивался на спину, и тогда вспоминалась трава, река... где-то, да, где-то... Но когда смутное желание делалось почти уловимым, опять выплывали откуда-то нестерпимые тяжелые глаза, мерцающие под серым пеплом, глаза Мичинио, хозяина нижнекаморских жагунсо... самовластного, никем и ничем не стесненного! Ненавидящего, грозящего... И горло ощущало лезвие ножа, скиталец поплотней прикрывал шею одеялом и снова пытался вникнуть в неясно томившее желание, уловить его, закрывал глаза, но так ясно слышались шаги — крадущиеся, бесшумные, жуткие шаги Мичинио... Испуганно садился в постели, до боли раскрывал глаза, словно зрение помогло бы выявить страшные звуки, но было тихо, разве что Петэ-доктор случайно звякал посудой в соседней комнате — оберегал он сон приемыша...
Было утро, раннее каморское утро, спесивый Каэтано только-только оповестил горожан: «Во-осемь часов утраа, и...» Да, все было геениииальнооооо, как же, еще бы, конечно... чтоб ему... В смятении схватил одежду, прикрылся и так заглянул под тахту — никого... Но зловеще безмолвствовал шкаф — высокий, черный. Доменико торопливо натянул сапоги — скорей на улицу, лучше смерть там, чем эта замкнутость в четырех стенах.
Вышел на улицу и тут же вернулся; волнуясь, попросил у доктора кувшин: «Только глиняный...» — «Зачем тебе, сынок?» — «Не знаю... нужно...» На углу улицы продавалось молоко.
На углу улицы продавалось молоко, и Доменико с кувшином в руках занял очередь, стал рядом с каморцами. На острых крюках грузно темнели кровавые куски мяса, продавец то орудовал топором, то, утерев руки тошнотворно грязной тряпкой, хватал ковш набрякшими кровью пальцами и наливал женщинам молоко; омерзительно было, но очень уж хотелось горячего молока... Перед Доменико стояла не по погоде легко одетая особа. Закутанному в плащ Доменико знобко стало при виде ее открытых плеч; безотчетно шагнув в сторону, он сбоку наблюдал за женщиной. А она стояла себе, задумавшись, теплая, мягкая, вроде бы сердечная, и не определить было ее возраста — не определить возраста женщины, особенно в ранний час, когда она только что с постели, без румян, наспех подобраны волосы, с легкими морщинками забот и тягот — когда настоящая, и зачарованно смотрел на ее почти обнаженные плечи скиталец — пленились глаза, и хотя неудержимо тянуло обнять ее озябшими руками и прильнуть впалой щекой к высокой груди и крепко-крепко прижаться, в глазах его и намека не было на плотское желание... Эта пышная теплая женщина была для него сейчас не просто женщиной — матери хотелось ему, по матери затосковал бедный скиталец, а женщина, ощутив на себе застенчивый, но настойчивый взгляд, медленно обернула к нему голову. Оглядела оценивающе и, явно довольная его хорошей одеждой и лицом — точеным, бледным, молящим, совсем иначе поняв его, так похабно улыбнулась... Бедный скиталец, будто змея ужалила! «Чего хандришь, красавчик?» — спросила она, и Доменико признался вдруг: «У меня... матери нет...» — ожидая слов утешения, а женщина бросила: «Подумаешь, какое дело... Родители уходят, дети остаются». И, направляясь с полной крынкой к ближайшему дому, колыша тугие бедра, она обернулась, уверенная в своей неотразимости. Доменико стоял, уронив голову... «Давайте, хале...» — поторопил его мясник, и Доменико, глянув на отвратительные желто-ржавые руки мясника с присохшей кровью, спрятал было кувшин, но одумался — протянул и в отчаянии наблюдал, как прижал продавец безгрешно чистый сосуд к задубевшему от крови фартуку, наполняя молоком: «Шестьдесят грошей». По пути домой оскверненный кувшин обжигал ему пальцы, но что было делать, молока хотелось злосчастному... Долго чистил кувшин снаружи битым кирпичом, прежде чем перелить молоко в кастрюлю и поставить на огонь... Доменико смотрел на пламя — чужое было, равнодушное, пылало себе... Жарким было, правда, ничего не скажешь. Едва успел снять бурно поднявшееся молоко и только оно осело, схватил с полки большую кружку и наполнил до краев... Не терпелось глотнуть; пригубил, остужая рукой, и разом выронил кружку, подлетел к окну, распахнул, высунулся — молоко словно кровью было заквашено. Видимо, кровь просочилась в безгрешную глину кувшина, и беднягу безбожно рвало, выворачивало — не осталось в нем ничего. Подбежал Петэ-доктор, ошалел.