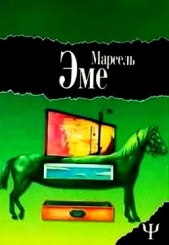Ящик незнакомца. Наезжающей камерой
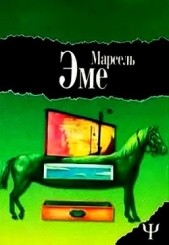
Ящик незнакомца. Наезжающей камерой читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды после обеда мадам Ансело и ее три дочери в присутствии Джонни приступили к первому рассмотрению воспоминаний Милу, которые должны были послужить материалом для его дебюта в литературе. Необходимо было увидеть общую картину и создать атмосферу. В первый момент Эварист Милу проявил норов и разочаровал публику. Ему не удалось выудить значимых воспоминаний. Напрасно дамы Ансело донимали его описаниями мрачных пейзажей городских окраин и разговорами о возвышенности ежедневной нищеты или о магическом реализме вечеров в предместье — память его не приходила в состояние брожения. Жермен даже процитировала ему Бодлера, первую строфу из «Вина убийцы»: «Жена мертва, и я свободен. Могу напиться допьяна. Когда пустым я возвращался, мотала душу мне она». Напрасный труд. Мысли Милу были бесплодны.
— Достали вы меня своими воспоминаниями, — говорил он. — О чем я должен вам рассказывать? О том, как я работал, ел, спал?
Джонни пытался включить его механизм ассоциаций самым тенденциозным образом:
— Когда ты ходил в школу, вспомни, не было ли у тебя друга, маленького мальчика, которого ты любил больше, чем других, за его красивые глаза или нежный голосок?
Под градом таких вопросов и в центре всеобщего беспокойства у Милу в конце концов испортилось настроение. «Если это и есть литература, то мне она уже осточертела», — думал он. Мариетт подкрепляла усилия сестер коварными и едкими вопросами, и в уголках ее глаз плясали злорадные огоньки.
— Когда ты в первый раз украл у родителей деньги, ты не помнишь, какую сцену они тебе закатили?
Тут Милу взорвался, и от злости к нему вернулась память.
— Нет, ну ты глянь, да какое тебе дело? Ты, что ли, вместо меня морду подставляла? Ну допустим, я воровал деньги у родителей, и не раз. И что с того? Ты-то, небось, у себя дома как сыр в масле каталась. Бифштексы каждый день, фортепьяно да уроки английского. А я сидел на диете, чтобы не поправиться. Когда была еда, лучший кусок всегда доставался отцу. «При том положении, которое я занимаю, — объяснял он, — я не могу себе позволить исстрадавшийся вид». А нам зачастую оставалось только смотреть, как он заглатывает мясо с гарниром и запивает двумя литрами вина. И если один из малых начинал выступать, старик кидался на него с кочергой. Но он получил свое еще на этом свете. В последнее время, когда он лежал с ревматизмом, я ему здорово надавал пинков по бокам и по ногам. Да, я воровал у него деньги. Ну так, немножко. Каждый раз, как только мог. Однажды, когда мать собралась рожать, я улучил момент, чтобы слямзить последние пятнадцать франков, которые оставались в ящике, и побежал в колбасную лавку. Покупаю там батон запеченного паштета, о котором годами мечтал. Он стоил ровно пятнадцать франков. Мой младший братишка Жюльен, восьмилетний пацаненок, побежал за мной к колбаснику и прямо глазам своим не верил. И вот мы пришли с этим паштетом на стройплощадку, где сносили старый дом. Я начинаю нарезать батон. Пацан вылупил на меня вот такие глазищи. Но я поклялся себе, что паштет этот — только для меня. Я жрал его, а ему не давал. Это, говорю, на краденые деньги, тебе плохо станет. Паштет был такой большой, что последняя четверть мне уже в горло не лезла. Но лучше сдохнуть, чем оставить. И я не оставил ни крошки. Живот у меня так и вздулся. А братишка рыдал, бесился, с ума сходил. Вернувшись домой, он меня заложил. А тут как раз отец с работы в своей похоронной форме. Сначала он даже верить не хотел. Как пришел в себя, привязал меня за руки к оконному шпингалету и давай молотить кочергой. Мать, у которой были схватки, орала в соседней комнате. Ну и я, конечно, ревел по-ослиному. Шуму наделали, что надо. Но я и под ударами говорил себе: давайте, козлы, зато вам нечего жрать, а у меня пузо лопается.
При воспоминании об этом Милу издал короткий, полный ненависти смешок, приоткрыв оскаленные зубы. Но Жермен уже сжимала его в объятиях, восклицая:
— Вот оно! Вот твоя книга, вся как на ладони! Под знаком бунта!
— Бунтарь, — повторяла в экстазе мадам Ансело, сжимая руку Милу. — Он был бунтарем. Милое дитя, как все теперь проясняется! Бунтарь!
— Атмосфера просто безумная, — заявляла Лили, — грандиозная в своей жестокости, и в таком резком, чистом свете. И хорошо просматривается комплекс. Не знаю, чувствуете ли вы, но, под этим ощущается скрытый эротизм.
— Напоминает лучшие страницы Сада.
— А отец, скованный ревматизмом, которого сын пинает в бока. Тут надо развить. Такая мощь!
— Прекрасный конфликт поколений. Это тоже надо указать.
— А мать, которая рожает и кричит в то время, как ее сына колотят кочергой. Это неслыханно прекрасно.
— Ситуация потрясающая, шекспировская. Какое величие! А поэзия!
Они теснились вокруг Милу, вырывали его друг у друга, оглушая похвалами и восторженными восклицаниями. Смешок Мариетт терялся в победном шуме, только усиливая его, Джонни пускал слюни от удовольствия. В этой лестной толкотне Милу забыл свою ярость и поддался опьянению творчеством. Литература ему подходила. Как бы познавая себя, он чувствовал, как раскрываются в памяти невидимые почки, и голова наполняется сценами прошедшей жизни, то мрачными и жестокими, то подлыми, то окрашенными черным юмором, позаимствованным из отцовской профессии. В благоговейной тишине он принялся изливать воспоминания. Уже не злясь, он рассказывал менее естественно, но все основное в этом повествовании было. Никто раньше и не предполагал, что материал может быть таким обильным и столь богатым мрачными сюрпризами. Что же касается Мариетт, которая думала, что ничего нового об этом парне не узнает, то она просто умирала от злости и отвращения. Тем временем мать и сестры лихорадочно делали заметки.
Милу оставалось еще много чего рассказать, когда служанка доложила о приходе мадам Ласкен и ее дочери. Этот неожиданный и совершенно невероятный визит разом изменил атмосферу. С первого слова и даже с первого взгляда всем стала ясна возможность вовлечь в священный экстаз новоприбывших. Впервые Милу ощутил горделивое и беспокойное чувство принадлежности к элите. Ему ясно представилось, что в этом печальном мире тысячи и тысячи людей навсегда останутся глухими к поэзии, мощи и магическому реализму воспоминаний его детства. И при мысли обо всех этих людях, замуровавшихся в своем непонимании, в его голове пронеслось: «засранцы».
Мишелин очень ловко сумела провести мадам Ласкен, воспитанную по всем правилам приличия и хорошего тона несравненными уроками дам из Успенского братства. Накануне отъезда на море они отправились за покупками в район Мадлен, и Мишелин с непринужденным коварством вспомнила, что обещала Бернару пригласить его сестер. Ясно, что уже слишком поздно, но нельзя же уехать из Парижа, не нанеся им визита, пусть даже неожиданного. Мадам Ласкен возразила: будет гораздо проще и скромнее послать им письмо, мы же, в общем-то, с этими Ансело незнакомы, и они никогда ничем не выказывали своего существования. Но, поскольку у матери никаких подозрений не возникло, Мишелин легко переубедила ее, представив дело так, будто она Бернару очень обязана. Бедный мальчик целый месяц приносил ей в жертву каждое утро. Стало быть, она в долгу не только перед ним, но и перед его сестрами, и обычным письмом не загладить ее преступной халатности. Мадам Ласкен уступила.
Мишелин обдумывала все детали этого визита уже несколько дней, но ей и в голову не приходило, что Бернара может не быть дома. Зная от дяди Шовье о всех подробностях их разговора, она представляла себе дорогого мальчика этаким затворником в кругу семьи, который ищет выход из героической схватки между долгом и страстью. Из дальнейшей беседы она поняла, что он только что начал годичную стажировку в одной экспортной компании и затем уедет в какую-нибудь азиатскую колонию.
Едва войдя, мадам Ласкен ощутила, что их визит по меньшей мере неуместен. Мадам Ансело и ее дочери были вежливо-предупредительны, но во взглядах сквозило некоторое удивление, и сам тон, которым их встретили, явно означал, что от них ждут объяснений. Призвав на помощь всю свою квалификацию, мадам Ласкен окинула салон взглядом стратега и смело решила, обернуть ситуацию в свою пользу. Матушка Святая Филомена Искупления могла бы гордиться своей ученицей. С самого начала разговора дам Ансело охватило чувство неопределенной вины перед мадам Ласкен, которая, казалось, пришла именно затем, чтобы даровать им милостивое и незаслуженное прощение. Впрочем, она быстро ободрила их своей обходительностью, искусством слушать и предоставлять возможность для удачных реплик, что привело Джонни в восхищение и вернуло его к воспоминаниям о некоторых очаровательных юношах, его друзьях в былые времена, изысканно-вежливых. «В наше время нечто подобное уже не встретишь», — думал он, сурово поглядывая на Милу. Тот не обращал на это никакого внимания, пытаясь составить мнение о Мишелин и не упуская ни слова из разговора.