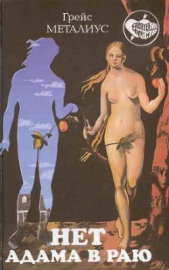Уникум Потеряева

Уникум Потеряева читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
10
Так получилось, что телеграмма о смерти бабушки нашла Пашку в санчасти, с высочайшей температурой. В роте многие мучились ангинами, полученными на вышках в таежные ветренные морозы. Ему и не показали ее на первых порах: в жаре на сердце и так сильная нагрузка, а при таком известии — долго ли до плохого? Даже через два дня, когда температура спала, и телеграмму отдали, Пашке стало плохо: он сел на койке и застыл деревянным истуканом. Побежали за нашатырем… На похороны, конечно, он уже никак не успевал.
Деда он не знал: тот вернулся с войны, женился сразу на бабе Шуре, устроился в МТС, но недолго там проработал: от трясучки на тракторе открывались раны, — сколько-то бригадирил, и умер, замерз пьяный в день выборов. Мамке было тогда лет шесть или семь. А бабушка так больше ни с кем не сходилась, прокуковала всю жизнь с дочерью и внуком. И никто никогда не любил Пашку больше, чем она. Умела все делать с шуточкой, даже тяжелую, нудную работу. То спляшет, то толкнет, то споет частушку. И они прекрасно обходились без мамки, та жила как бы отдельно от них.
Что мамка! Вечно ей было не до Пашки: то работала, то подрабатывала, то хозяйство — огород, покос, корова, поросята, то жили в избе приезжие мужики — тогда на столе не выводилась бутылка, скрипела кровать, летали горячие шепотки; то путалась снова со своей давней любовью, Юркой Габовым — и все село стояло дыбом, Юркина мать набегала драться, орали благим матом ребятишки, мамка с веревкой лезла на сеновал давиться, но ничего у нее никогда не получалось, и она спускалась обратно с тою же веревкой в руке, растерянная и перепуганная. Бабка Шура жила тихо среди этого хаоса и кутерьмы, и все прощала: что же делать, если у девки не задалась жизнь! Весь дом, все хозяйство держалось на ней. Ведь стоило ей умереть — и мать тут же заколола корову. Писала, что из-за денег — но ясно же было, что хотела враз избавиться от каторги, которую несет при корове одинокая баба. Уж подождала бы Пашку, вдвоем-то как-нибудь… Другое дело, что Маковка была старовата. Ну, что-нибудь придумается!
Шагая на кладбище, Пашка вспомнил, как они с бабушкой ходили ставить морды на Подкаменке. Там уже вывелась к тому времени хорошая рыба, ловилась одна мелочь, сор, — а когда-то, по бабкиным рассказам, в ней текла сильная скорая вода, стояли мельницы на берегах, было полно щурят, а по дну бродили раки, хватали за ноги. В омутах купались люди, на Иванов день девки сплавляли венки.
— Здравствуй, бауш! — сказал Пашка. — Что же ты меня не дождалась?
Достал из сумки бутылку, две рюмки. Налил одну, поставил на поросшую травой грядку, перед неказистой железной пирамидкой с крестом. Вторую налил себе, выпил залпом; постоял набычившись. Затем выпрямился, отдал честь:
— Сержант Шмаков! Стратегические ракетные войска! Вот так!
И вдруг завыл тоненько, размазывая слезы. Как жить теперь без бабы Шуры! Кто обнимет, кто наругает? Ведь мамка — это не то, это совсем не то.
А когда спускался от кладбища вниз, к избам, то подумал: «Умереть бы с нею и мне!» И сам испугался: до того мысль показалась странной, тяжелой, мужицкой — словно много уже прожил и видел.
По улице шла мать, и с нею поспешал на встречу служивого старый Ванька Корчага. Он был скотником на ферме, и Пашка всегда помнил его одинаково: беззубым, полупьяным, с рыжей щетиной на лице. То в фуфайке, то в брезентухе. Чтобы не вести лишних разговоров, он спрятался от них за забором, ожидая, когда пройдут. Пока стоял, снова тяжесть легла на сердце, и он зажмурился, переживая ее. Толик Гунявый, по-лагерному Окунь. Где-то он бродит тут, бродит…
11
Летом, когда Толька явился из детдома и снова осел в деревне, здесь было довольно много пацанов: сколько-то своих ребят, больше же наехало городских — на природу, пожить у бабок и дедов, — и еще дети, внуки дачников. Скоро вся эта кампания вовсю уже гужевалась вокруг Гунявого: вместе бегали по лесу, воровали, кого-то били между собою, ездили даже на центральную усадьбу, драться с тамошними пацанами. Пашка Шмаков крутился там только по первости; так они бегали, бегали тоже однажды, и пришли к Тольке в избу. Сели вдоль стен; курящие задымили, а хозяин лег на ржавую, скрипучую, застланную вонькой лопотиной койку и стал рассказывать о кайфе, какой можно словить, курнув «планчик». Вдруг он расстегнул ширинку, достал письку, и начал быстро сучить рукою. Ошеломленный Пашка услыхал тонкий счастливый визг; белая струйка брызнула на стену. Глянул на пацанов: одни хихикали, другие смущенно сопели, третьи вообще делали вид, что ничего не случилось. Ему стало не по себе: он вышел, убежал домой, и там рассказал бабушке, что видел в избушке Пигалевых. Ему шел лишь тринадцатый год, и он не понял толком, что это было. «Вот беда! — сокрушалась баба Шура. — Пошто же он при ребятах-то так? Бес, чистой бес! Ты, Павлик, чтобы больше с ним не бегал. Узнаю — всего испорю!» Пашка боялся ее, и перестал шляться с тою компанией, водился лишь с двумя более-менее спокойными ребятишками, чтобы было с кем поиграть, сходить на рыбалку и по грибы. От них же он узнал, что Толик выкинул еще один финт, укрепляя авторитет и позиции. Поймав пасшуюся в окрестностях козу какого-то дачника, он в сопровождении всей честной компании затащил ее в лес и там прилюдно изнасиловал, громко похваляясь словленным кайфом. За ним еще трое пытались предстать такими же ухарями, — но одного вырвало, другой, едва начав, сплюнул и ушел; лишь третий довел дело до конца и удостоился Гунявиной похвалы. «Ну что, кайф?» — спрашивал он. «Ага, кайф!» — отвечал бледный насильник.
Кончилось лето, компания распалась; Толька уехал в ПТУ. Явилась маманя его, устроилась зимовать. А весною, перед тем, как снова пуститься в путь-дорогу, — получила письмо от сына: осужден, мол, за групповые кражи, надо сообразить передачку, денежный перевод… Мать читала его каждому встречному-поперечному, беззубо хихикала, приседала на тонких ножках: «У, передачку ему ищо! Деньги надо! Он сам мать-ту забыл! Он сам меня доложен кормить, он сам меня доложен вином поить! Ведь я его родила. Я ему, сучонку, в ррот, в хвосст, в куриные глазки…». Так и не отправила ни денег, ни передачки. Снова пропала, и снова стояла их корявая изба — с оградой, заросшим пустым огородом, упавшим забором. Странная то была изба, и словно некий дух витал над нею: здесь не играли ребята, сюда не заглядывали наезжие охотники; дачники не растаскивали ограду на доски и бревна для хозяйства. Всегда вокруг этого дома было тихо, пусто, и люди обходили его. И хозяйка-то уж два года как исчезла, не вернулась из очередного путешествия. Поди узнай — жива ли?
Сына же ее — Толика Пигалева — Пашка видел год назад, в колонии строгого режима: бывший земляк отбывал там вторую ходку. Сам Шмаков попал в ту роту случайно, и числился прикомандированным: колонии предстояла плановая проверка, и личный состав довели до штата, для порядка; после всего варягам надлежало отбыть восвояси, по родным подразделениям. Такой расклад устраивал воинов: хоть какое-то разнообразие, да и служить в укомплектованном месте лучше, чем там, где не хватает народу. Меньше крика, беготни, непредвиденных тягот, больше свободного времени, — да и порядка, в конце концов. И Павел, прибыв сюда из задерганной своей роты, радовался поначалу, — до того ровно момента, пока не встретил любезного своего друга детства и односельчанина.