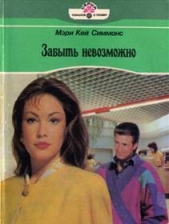Дом паука
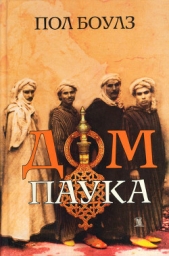
Дом паука читать книгу онлайн
Герои романа — циничный писатель Стенхэм, американская туристка Ли и юный подмастерье горшечника Амар — оказываются в центре политического урагана — восстания марокканцев против французских колонизаторов в старинном городе Фес. Вскоре от их размеренной жизни не останется ни следа. Признанный одним из важнейших достижений американской прозы XX века, роман Пола Боулза (1910–1999) приобрел особую актуальность сегодня, поскольку он демонстрирует истоки заворожившего весь мир исламского экстремизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, но, может быть, ему и в самом деле надо как-то ею распорядиться. — (В подобных спорах Стенхэм часто, неожиданно для себя вдруг начинал превозносить буржуазные добродетели.) — Если он порядочный человек и трудится на совесть…
— Ничего подобного! — воскликнул Амар, глаза его горели. — Вы — назарей, христианин. Будь вы мусульманином и скажи такое, вас бы убило или поразило слепотой на этом самом месте. У христиан добрые сердца, но они ничего не смыслят. Они думают, что могут изменить предначертанное. Они боятся умереть, потому что не понимают, зачем существует смерть. А если боишься умереть, ты никогда не узнаешь, зачем была дана тебе жизнь. Как вы вообще можете жить?
— Не знаю, не знаю, не знаю, — дружелюбно пробормотал Стенхэм. — И, наверное, так никогда и не узнаю.
— А когда все-таки узнаете, приходите ко мне и скажите, что хотите стать мусульманином, и мы устроим для вас большой праздник, потому что христианин, ставший мусульманином, дороже Аллаху, чем тот, кто мусульманином родился.
— Спасибо, — ответил Стенхэм со вздохом. Он всегда благодарил собеседника в таких случаях, потому что, затронув тему обращения, тот подтверждал свои истинно дружеские чувства. — Надеюсь, однажды так оно и случится.
— Иншалла.
— Давайте посмотрим пляски, — предложил Стенхэм, которому вдруг захотелось поскорее свернуть разговор. Это был удобный выход, так как грохот барабанов и пение были настолько громкими, что, приблизившись к кругу, разговаривать становилось невозможно. Мальчики тут же вскочили и проворно надели сандалии. Стенхэм встал, потянулся и, бросив быстрый взгляд на Ли — убедиться, что она спит, — взял ботинки и на цыпочках прошел к выходу из шатра.
— Nimchi о nji, я вернусь, — сказал он кауаджи.
Настало самое холодное время ночи. Луна скрылась за одной из западных гор, но часть неба над ней не померкла, и дальние уголки округи еще купались в лунном свете. Мальчики притопывали, стучали пятками в ритме импровизированного танца и, двигаясь вприпрыжку, опередили Стенхэма. Когда они прошли еще немного, Стенхэм заметил, что Мохаммед быстро оглянулся, положил руку на плечо Амара и принялся что-то ему нашептывать. Стенхэм смотрел на Амара, стараясь подметить его реакцию, но ничего не заметил: тот лишь что-то коротко ответил. Дойдя до более людного места, мальчики остановились подождать Стенхэма. Он поглядел на восток, ища следы близкой зари, но было еще слишком рано.
«Что они там замышляют?» — думал он с легким беспокойством. Он не мог поверить, чтобы Амар принял участие в какой-нибудь затее, направленной против него, но вот кто такой Мохаммед? Он вполне мог оказаться типичным фесским хaрами [153], а в какой степени он способен повлиять на Амара, Стенхэм не знал.
Казалось, ночь, умирая, делает последние, отчаянные попытки выжить, наводнив мир темнотой. Пламя большинства костров погасло, и казалось, что барабанная дробь, доносившаяся из мрака, стала намного громче. Здесь, внизу, в седловине между двумя холмами, особенно ощущалась ночная прохлада, и почти все, кто был на ногах, накинули капюшоны, так что по главной тропе словно двигалось сумеречное шествие монахов. Дым от угасающих костров валил еще сильнее, повсюду слышался кашель.
Несколько новых небольших кругов образовались с того момента, когда Стенхэм проходил здесь в последний раз. Трудно было сказать, что происходит внутри, за чем следят с таким вниманием люди. Посреди одного стояла, застыв как изваяние, женщина, длинные волосы скрывали ее с головы до пят, она тихо, ритмично постанывала: время от времени казалось, что по телу ее пробегает едва уловимая дрожь, но Стенхэм не мог бы в этом поручиться. Посреди другого старый неф стоял, наклонившись, опершись грудью о воткнутый в землю шест. Рядом с ним над полным углей глиняным горшком лениво вился смрадный дым.
— Что это? — шепотом спросил ошеломленный Стенхэм.
— Фасух. Очень хорошо, — ответил Амар. — Его надо насыпать в ботинок, и если перед входом в дом или кафе закопан покойник, это не причинит вам вреда.
— Но почему они его жгут? — настаивал Стенхэм.
— Дурной час, — ответил Амар.
Стенхэм еще раз внимательно поглядел на старика, и ему померещилось в нем что-то непристойное.
— Что он делает? — шепотом спросил он.
— Вспоминает, — так же тихо ответил Амар. Веки негра были полуприкрыты, зрачки закатились, и время от времени дряхлые безвольные губы слабо двигались, силясь вымолвить какое-то слово, но вместо этого слюна пузырилась и лопалась на них. Перед зрителями на земле сидел еще один чернокожий в пиджаке и шапочке, расшитой белыми ракушками каури. Он погрузился в звуки, вылетавшие из слабо натянутого барабана, по которому он ударял лениво; негр вслушивался в них — весь внимание, с закрытыми глазами, склонив голову набок.
— Nimchou, — пробормотал Стенхэм, которому хотелось поскорее уйти от жуткого удушливого смрада, исходившего от горшка с углями. В запахе этом чувствовался сладкий аромат смолы и одновременно — жирная вонь горящих волос, отвратительная смесь. Даже когда они уже далеко отошли от круга, запах все еще проникал в ноздри и глотку вонючей слизью. Стенхэм яростно откашлялся и сплюнул.
— Вам не нравится фасух, — обвиняюще произнес Амар. — Это значит, что вы во власти злого духа. Нет! Клянусь Аллахом! — воскликнул он, когда Стенхэм принялся отшучиваться. — Клянусь, это так!
— Ладно, — согласился Стенхэм. — Во мне обитает джинн.
Они подошли к еще одному небольшому кругу. Здесь две девушки молча кружились, не сходя с места, их головы и плечи были полностью скрыты большими лоскутами ткани. В их движениях не было никакого изящества, и здесь не играла музыка. Словно двум маленьким девочкам пришло в голову проверить, кто сможет дольше вертеться на месте и не упасть, и люди собрались поглядеть на это странное состязание в выносливости.
— Что это? — поинтересовался Стенхэм.
— Зуамель, — негромко ответил Амар. Значит, это вовсе не девушки, просто одежда на них женская.
Они повернули к более ровной части долины, где народ собрался большими группами. Представления вызвали у Стенхэма легкую дурноту. Это сочетание бессмысленности и уродства бередило ему душу. В застывших маленькими кружками людях определенно крылось нечто отталкивающее. Дело было не в длинноволосой женщине, не в старике-негре и, уж конечно, не в зрителях; бездумные взоры, устремленные на то, что, по мнению Стенхэма, должно было происходить под покровом строжайшей тайны — вот что производило гнетущее впечатление. Мир вдруг показался совсем маленьким, холодным и застывшим.
Амар поднял руку и указал на небо над горами.
— Светает, — сказал он. Стенхэм не заметил признаков зари, но Амар утверждал, что она близится. Они пристроились к самому большому на вид кругу. Посреди в отблесках дотлевающего костра стояла женщина, вся в белом, и пела. Окружавший ее хор мужчин, взявшихся за руки, откликался на финал каждого куплета криком, похожим на громкий всплеск воды, и всякий раз неким чудесным образом он превращался в мелодичное журчанье, ниспадавшее к первой ноте следующего куплета. В этот момент казалось, что хор готов броситься на певицу, смять ее. Опустив головы, как рвущиеся в атаку быки, они делали три широких шага вперед, отдаляясь от зрителей, круг резко сужался; затем, в то время как женщина медленно поворачивалась, точно статуя на вращающемся пьедестале, они, словно одумавшись, вновь расступались. Повторяемость и агрессивность придавали танцу священный, иератический характер. Однако песнь женщины вполне можно было принять и за зов одного путника в горах к другому, на далекой вершине. В отдельных длинных нотах, выпадавших из течения времени, поскольку ритмичные выкрики замирали, крылась безмерная печаль горных сумерек. Красивая песня, подумал Стенхэм, и решил задержаться, поддавшись чарам. Нельзя было сказать, усиливаются они или нет, поскольку все время повторялось одно и то же, так что, заранее зная, что будет дальше, можно было не дослушивать. Но не слушая все до конца, невозможно было понять, как это подействует. Могли пройти десять минут или час, но любое суждение об этой музыке казалось ошибочным. Так он и стоял, не в силах уйти, а ум его был заполнен непривычными, полуоформившимися мыслями. Были моменты, когда музыка позволяла ему обратить взор в себя, и ему удавалось различить черное пятно вечности — по крайней мере, так он определял это ощущение. Cogito, ergo sum [154] — чушь, бессмыслица. Я мыслю вопреки тому, что существую, и я существую вопреки тому, что мыслю.