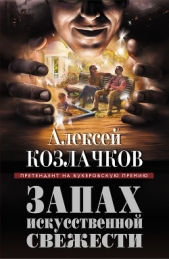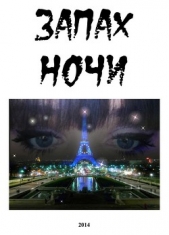Гу-га

Гу-га читать книгу онлайн
Повесть посвящена малоисследованной советской историей теме — штрафным батальонам…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Восемнадцать! — поспешно, в один голос отвечают пацаны.
Капитан нетерпеливо постукивает рукой по столу. Старший лейтенант еще раз смотрит на пацанов, быстро подписывает документы и отворачивается.
— Так. — Капитан теперь смотрит на нас. — Тираспольский, к себе возьмешь!
Мы с ефрейтором и пацанами идем на склад «б/у», подбираем им комплекты обмундирования, ведем в баню. Оба они тонут в армейских брюках, а младшему приходится подворачивать рукава гимнастерки. Пилотки висят у них на ушах, приходится ушивать их сзади. На остальное нет времени.
— Правоторов всегда таких берет, — рассказывает мне ефрейтор. — Тут, считай, кража социмущества: сколько лет загорать. С бородой выйдут. А так: раз-два, и готово. Хорошо в войну: долго не сидеть. Вот и прибавляют себе такие пацаны годы, чтобы в штрафную. Если человек жалостливый, конечно, найдется… Вас кто научил?
Это он спрашивает у пацанов.
— Адвокат Илья Евсеевич сказал: говорите, что восемнадцать, потом, после суда, — охотно рассказывает старший, Хрусталев.
— Говорить-то все можно. Как посмотрят. А Правоторов всегда их берет!..
Мы уже в вагонах. Их в эшелоне полсотни. Лишь штабной — пассажирский, остальные красные, товарные, с трубами утепления наверху. Первые два вагона после штабного — наши. Должен быть полный батальон, но добирают уже там, на месте. Если же и там не доберут, то будет отдельная рота. Так объясняет нам один из лейтенантов — Ченцов.
Нары у нас в два этажа, и дверь так задвинута, что не может открыться шире, чем для одного человека. В каждом вагоне сержант с автоматом и часовой. Снаружи на нашем вагоне кто-то мелом написал: «…дец немецким оккупантам!» Это от души.
Взводным разрешено выходить. Стою и смотрю, как грузятся в другие вагоны два обычных маршевых батальона: с оружием, минометами, боекомплектом. На разъезде тут один только запасной путь, и вокруг голая степь. Командиры торопят: крики из конца в конец эшелона, команды, ругань. На западе в горячей песчаной мгле мутно расплывается солнце. Мы поедем в другую сторону.
Наш капитан подходит к вагону:
— Иванов!
Тот выпрыгивает на землю. Капитан Правоторов делает мне знак. Втроем мы идем на другую сторону пути, мимо паровоза, к стрелке. Там лишь какой-то железнодорожник возится с фонарем.
— В Ташкенте будем завтра к ночи. Найдешь нас там, — говорит капитан Иванову.
Тот смотрит своим прозрачным взглядом и к чему-то прислушивается. Рельсы гудят. Среди желтых холмов появляется черная паровозная туша. Она стремительно растет в оранжевом диске заката.
— Смотри там… патруль!
Иванов утвердительно кивает головой.
Гром нарастает, и вот уже, полыхая горячим ветром, несутся мимо тяжелые темные цистерны маршрутного. Иванов бежит рядом. Руку его дергает, рвет, тело подхватывает ветер, он подтягивается и исчезает в будке между цистернами. Через минуту ничего уже не видно, перестает дрожать земля, рельсы затихают.
— Пошли, — говорит капитан.
Ночью, едем, потом долго стоим, опять едем. Качается фонарь у двери. Кто-то плачет во сне, тонко скулит. Сапогом бы пустить, чтобы заткнулся.
Днем в открытую дверь задувает дым от паровоза. Сквозь летящие угольные зерна видны сады, речка, прямоугольники кураги на крышах. Это же старый город. Где-то тут за деревьями наш аэродром…
Больше не смотрю, протираю тряпкой засорившийся глаз. Не тряпка это, а большой мятый платок из парашютной ткани. И буквы синие крупно вышиты в углу: «Б. Т.»— Борис Тираспольский. В мелких квадратиках шелка остается черный след.
Едем уже без остановки. Закат теперь слева, поворачиваем к северу. Поздно ночью яркие электрические огни поочередно высветляют внутренность вагона. Щурим глаза от света. Наконец останавливаемся. По пустой платформе гулко стучат сапоги.
— Ташкент, — говорит кто-то.
Все задвигались. В дверь к нам грузят мешки с хлебом, консервы, заливают титан водой. Это воинская площадка, я здесь уже грузился когда-то. Капитан неподвижно стоит напротив нашего вагона. Никого больше нет на платформе. Трогаемся только к утру.
Потом еще долго стоим в Чирчике, в черте города. Как и в прошлое утро, делается поверка. Лейтенант Ченцов опять не называет фамилии Иванова. Выставляю голову из вагона, смотрю налево, потом на мост через пути: никого нет. И капитана не видно. Трогаемся…
Мы поворачиваем все ближе к закату. Пламенно-желтые полосы наискось ударяют в дверную щель, просвечивают вагон до самой дальней стены. Ночью опять кто-то плачет. Лезу в угол, в темноту. Это, оказывается, пацаны.
Плачет старший, и не во сне, а с открытыми глазами.
— У него мать больная, — говорит младший, Вадик, и обращается к напарнику: — Ты не бойся, Линка за ней посмотрит. Продадут чего-нибудь, если что. Линка — моя сестра. Мы в бараке с ними, в комнате одной. Днепропетровские…
Под утро опять стоим. Тишина такая, что, кажется, вся земля уснула. Лишь где-то в лунном свете блеет козленок: должно быть, на разъезде. Тяжелый грохот наваливается неожиданно, качаются вагоны. И проходит тоже сразу, как будто исчезает из этого мира. Маршрутный наливной состав пропускается даже раньше воинских.
Медленно, почти незаметно трогаемся. Кто-то касается моего плеча, обрывая утренний сон.
— Тираспольский… Я это.
Пахнущий ветром и нефтью, тяжело еще дыша, укладывается рядом со мной Иванов.
— В облаву попал. У самого вокзала, — говорит он и затихает.
Потом через некоторое время снова говорит возбужденно, торопясь все объяснить. — Жена у меня в Ташкенте, понимаешь. На текстильном работает. Два года девочке. Вот…
Смотрю в предутренней тьме на карточку. Молодая женщина с сильно завитыми, как у Ладыниной, волосами, в платье с прямыми плечами, Иванов, тоже в пиджаке с плечами и расстегнутой бобочке, смотрит куда-то, откинув голову. И девочка между ними с широким лобиком вся подалась вперед. Ручка на колене у отца.
— Верка обрадовалась. Ну, вот, солдат ты, говорит, — шепчет Иванов.
Утром на поверке, будто ничего не случилось, называют его фамилию. Капитан только коротко здоровается с ним. И другие молчат, хоть все знают про то, что отпускали домой Иванова.
Будто сломалось что-то между нами и тюремными после того, как вернулся Иванов. Раньше Левка Сирота заискивал перед нами. Теперь он уже не боится нас, сидит, как-то странно согнувшись в три погибели на нарах, и рассказывает мне:
— Вот лафа была перед войной. По житомирской ветке или от Бахмача работали. Сажусь в поезд: в чистой рубашке мальчик, даже платочек для носа. По плацкарте, чин чином, никто и не скажет ничего. А под утро через другой тамбур уже с чемоданом. Пахан у нас в Дарнице был. Посмотрит сверху на чемодан и определяет: сто рублей тебе за него или двести, а то сразу пятьсот. Знаешь, что тогда пятьсот рублей были!..
— Ну, а хозяин? — спрашивает Кудрявцев.
— Что хозяин? — не понимает Сирота.
— Да чей чемодан ты спер. Ему каково?
Сирота моргает короткими ресницами:
— Ну, а ты, когда парашют толкал?
— Дурак, он же казенный.
Капитан Правоторов теперь вовсе перебрался к нам: лежит на нарах с закрытыми глазами, но не спит. К обеду уходит в офицерский вагон. Приходит оттуда уже тяжелый: поднимается по железной ступеньке, стараясь точно ставить ноги. Ужинает с нами из котелка. Хлебнет две ложки и снова ложится. Никто у нас громко не говорит и не матерится при нем.
К вечеру, когда спадает жара, лезем на крышу. Нам негласно позволяется. Лишь тюремные не делают этого: сами понимают свое положение. Еще пацанов мы берем с собой. Вот уже третий день вокруг ровная степь, серая, с желтыми пятнами колючки. Ночью вдруг пахнет морем и даже слышится прибой. Наутро все та же степь, и верблюды стоят у горизонта…
Мы с Шуркой Бочковым сбрасываем рубашки, лежим на жесткой крыше, обдаваемые жгучей паровозной пылью. Кудрявцев не снимает даже гимнастерки, сидит, лениво привалившись к трубе утепления. Утром, когда приходится, моемся у водокачки, пока паровоз набирает воду. В маршевых батальонах это не разрешается. Из эшелона смотрят на нас без зависти, понимая наши нынешние права. В вагонах у них поют песни. Мы не поем…