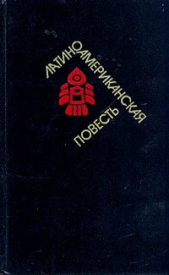Ты помнишь, брат

Ты помнишь, брат читать книгу онлайн
Хоакин Гутьеррес родился в 1918 году в городе Пуэрто-Лимон. Многие годы его жизни прошли в Чили, здесь же вышла и первая книга Гутьерреса — «Кокори», получившая первую премию за произведения детской литературы. В качестве корреспондента центрального органа Коммунистической партии Чили газеты «Сигло» Гутьеррес работал в ряде социалистических стран, в годы Народного единства возглавлял издательство Коммунистической партии Чили «Киманту». Является автором романов «Мангровые заросли» (1947), «Пуэрто-Лимои» (1950), «Посмотрим друг на друга, Федерико» (1973).
Хоакин Гутьеррес — видный представитель революционной литературы Латинской Америки. Публикуемый роман «Ты помнишь, брат» (Гавана, «Каса де лас Америкас», 1978) был удостоен первой премии конкурса «Каса де лас Америкас» на Кубе (1978). В основу романа, в котором воссоздаются эпизоды борьбы чилийского народа против диктатуры Гонсалеса Виделы в 40-50-е годы, положены автобиографические события. Важное место в романе занимает тема писательского труда и становления новой латиноамериканской литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это все исключения, раз, два и обчелся, — отвечали мне. Мне посоветовали как можно скорее переехать в другой пансион, знакомым сказать, что уезжаю надолго в родные места. Я получу сложное задание, о чем меня оповестят в свое время. И — «чао!».
Я сказал донье Памеле, что уезжаю в Осорно, там живет единственная моя тетя и она заболела раком мозга, а в счет долга за квартиру останутся в залог мои книги; донья Памела рассердилась — как можно делать такие вещи, надо же было хотя бы предупредить за несколько дней. Потом расцеловала меня и благословила.
— Безобразник! Я не стану говорить вам «не делайте того, что вам подсказывает совесть», но будьте осторожны.
Берегите себя, они ведь такие звери.
Без сомнения, донья Памела кое о чем догадывалась; именно поэтому я притворился дурачком и даже не спросил, кого это она имеет в виду.
В тот же день я рассказал мою великолепную историю Маркизу, только, найдя, что рак мозга — как-то уж слишком жестоко, я решил перетранспортировать тетушкино заболевание в какое-нибудь другое место и на всякий случай выразился на этот раз несколько туманно. Маркиз не заинтересовался и пренебрег моими объяснениями. Не поднимая головы от книги, сказал, что в конце месяца день его рождения и хорошо бы отпраздновать его вместе.
Вечером мы занялись наконец делом. Несколько дней тому назад Маркиз заставил меня прочитать рассказ Чехова, попросил, чтоб я старался не запоминать его. Потом велел мне сесть и написать тот же рассказ по-своему.
— Да, да, все то же, только пиши своими словами.
Увидишь, как здорово получится.
Это было унизительно. Получилась бесцветная водянистая каша с претенциозными и совершенно ненужными красотами, нечто отвратительно сальное, а попросту говоря — куча дерьма. Сравнили с оригиналом: мой рассказ выглядел как траченное молью чучело из жалкого провинциального музея рядом с прелестной живой газелью, скачущей по лужайке.
— Не надо огорчаться, не надо. Возьми еще десяток рассказов разных авторов и сделай то же самое. Старайся выбрать те, которые кажутся тебе самыми трудными.
— А ты сам много раз так делал?
— Да это же вовсе не трудно, штука в том, чтоб уловить некоторые приемы. Мэнсфилд [30], чертова кукла, почти как Чехов пишет. Не ухватишь…
— А зачем же ты меня заставил начинать с Чехова?
— Заткнись! — Он улыбнулся, обнажив белые как молоко зубы. — Только за Хемингуэя не берись на первых порах, он все равно как липучка для мух, сразу завязнешь.
— А Кафка? Кафку ты пробовал так переписывать?
— Даже и не мечтай. Не забывай: Кафка был неврастеник, слабосильный, женской любви он не знал, и тут ему никакой Брод [31] помочь был не в силах, а поскольку ты всеми этими особенностями не отличаешься, то никогда и не постигнешь, как коротал свои бессонные ночи этот жуткий гениальный пражский еврей. Нет уж. Даже и не думай. Тот, кто хочет подняться по лестнице, должен начинать с нижней ступеньки, а не с верхней. Пока что тебе надо довольствоваться Кирогой [32] и Джеком Лондоном.
О Толстом даже и упоминать не смей. О Достоевском — тем более. А теперь отвали, хватит на сегодня, ты и так уже достаточно из меня выжал.
Мы курили без конца, то и дело перебрасывали друг другу пачку сигарет. Согрелись, потому что залезли, как были, во всей амуниции, под одеяла. Мне стоило героических усилий не расстаться с мечтой сделаться когда-нибудь писателем, и в то же время я старался, чтоб Маркиз этого не заметил, и изображал полнейшее равнодушие.
— А Фолкнер?
— Хватит, я сказал! — взревел он. — Я сейчас хочу вот что сделать, если ты, наконец, умолкнешь, — он улыбнулся коварно, — хочу посадить в твоей душе древо сомнения.
— Попытайся. Посмотрим, что у тебя получится. — Тут уж я был совершенно в себе уверен.
— Тебе кажется, будто ты необычайно тверд в своих убеждениях, верно ведь? Ну, так слушай: на ваш взгляд, главное в творчестве писателя — его идеология.
— Вот так, напрямик — нет.
— Не отпирайся. Я могу разбить тебя в два счета. Вы всегда это утверждаете. И конечно, садитесь в калошу, когда вам приводят в пример Бальзака, который был легитимистом. Но ты слушай! — Я лежал лицом к стене и все же чувствовал, что Маркиз наблюдает за мной.
— Ваша позиция неверна. И вредна.
— Ну-ка, давай докажи.
— Писатель пишет не одной только головой. Возьми хотя бы Кафку. В творчестве участвуют и вожделения, и ностальгия, и твои поражения, и детские сны, и даже отбивная котлета, которую ты съел за завтраком и от которой ощущаешь тяжесть в желудке; какая-нибудь мыслишка, подхваченная бог весть где, тоже, конечно, играет роль, но только вовсе она не образует идеологии. Тем более — связной. Возьмем тех, что слывут у вас самыми идейными: твой обожаемый Гейне, к примеру, язвительный Кеведо или Золя твой — он, между нами говоря, до того скучен, зевота прямо рот раздирает. Теперь ты подумай и скажи: есть у них у всех единая связная идеология? Ну-ка! Вот и не скажешь. Я так и знал. Да избавит нас аллах, совсем это ни к чему, чтобы писатели маршировали в ногу, будто солдатики, и все придерживались одинаковой идеологии. Давай-ка посмотрим, какая идеология была у Гомера. — Маркиз воодушевился, голос его делался все визгливее. — У Соломона в «Песне Песней»? Один был лысый слепой старикан и обладал черт знает какой громадной памятью, а другой — царь, и у него было четыре тысячи наложниц. Оба жили во времена рабства. И что же? Хоть как-нибудь отразилось это в их произведениях? И даже если отразилось, имеет ли какое-нибудь значение? Если б имело, люди не наслаждались бы их писаниями в наши дни, а они наслаждаются и будут наслаждаться всегда, во все времена — хоть при самом что ни на есть распрекрасном коммунизме, о котором ты грезишь. Видишь, как я тебя раздолбал? Видишь? — Он сел на кровати, в восторге хлопал себя ладонями по коленям.
— Заврался ты, Маркиз, дело совершенно не в том.
— Нет в том, в том, отступник ты чертов.
— Да дай же мне сказать.
— Нет, молчи. Сначала я договорю. И попытайся забыть на время свои ядовитые идеи, иначе ты не поймешь. Настоящий творец — это удивительный феномен, существо, способное черпать из огромных кладовых человеческого мозга, которыми другие никогда не пользуются, человек, снабженный радарами, словно летучая мышь, и когда он создает гениальное произведение, он как раз пребывает в полубессознательном состоянии, а вот интуиция его кипит, как вода в котелке. Бедный дон Мигель так и умер в уверенности, что «Персилес» удался ему лучше, чем «Дон-Кихот». Кинь мне еще сигарету. Да, да, в том-то и все дело. Чудища эти пишут в состоянии транса, будто им кто диктует, а когда после, придя в себя, правят, то очень часто портят. И если такой вот тип решает поставить свой талант на службу какой-то определенной идеологии, он сам себя обрекает на бесплодие. Ведь любая идеологическая система неизбежно стареет, ибо проклятое время катится неудержимо. Прогресс человеческого познания идет, и, рано или поздно, самые совершенные, самые идеальные системы ссыхаются, как сливы. Птолемей, Аристотелева логика, схоластика. Они властвовали умами в течение столетий. Кинь мне еще сигарету, я говорю. И скажи вот что. Зажги, ты же знаешь, у меня нет спичек. Вот что скажи: бизоны в пещере Альтамиры, женщина из Эльче, голова Нефертити, стихи Ии Таи По — они-то по-прежнему молоды! Да еще как! А почему? Потому что они — сама жизнь и как таковая завоевали право существовать столько, сколько стоит мир. — Маркиз дошел чуть ли не до пароксизма, он заикался, плевался, фыркал. — Разумеется, идеологам хочется покровительствовать творцам. Очень эффектно галопировать на диком жеребце. А к тому же еще и зависть. Им ведь тоже хотелось бы создать что-либо подобное. Они понимают, что идеи их рано или поздно травой порастут или, в лучшем случае, будут ползать, чуть живые, на костылях. Знаю, сама диалектика развивается диалектически, тут я как раз с тобой не спорю, это лучшее, что я от тебя слышал за все время. Но художник не может сидеть и ждать, пока она разовьется. И не может остановиться в середине главы, посмотреть, все ли у него идет по науке. К тому же наука, как всякое познание, развивается путем постепенного накопления идей и фактов. В искусстве же такого накопления не происходит. Искусство — это волны, каждая сама по себе, и все одинаково прекрасны. Или вулканы, как Везувий или Кракатау. Какой дурак осмелится сказать, что лучше: Аполлон, убивающий ящерицу [33], или Мыслитель Родена? Львиные ворота в Микенах или двери флорентийского батистерия Гиберти? «Махабхарата» или «Преступление и наказание»?