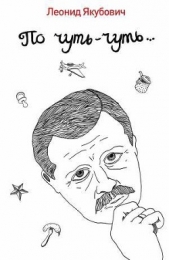Испанский смычок

Испанский смычок читать книгу онлайн
Андромеда Романо-Лакс, родившаяся в 1970 году в Чикаго, поначалу заявила о себе как журналистка, путешественница и серьезная виолончелистка-любительница. Ее писательская деятельность долго ограничивалась рассказами о путешествиях, очень увлекательными, но документальными. «Испанский смычок» — первый роман Андромеды Романо-Лакс, удостоившийся восторженных отзывов ведущих американских критиков и мгновенно разошедшийся по всему миру в переводах. Знаменитый журнал Library Journal назвал его литературным событием 2007 года.
«Испанский смычок» — это история мальчика из пыльного каталонского городка, получившего в наследство от рано умершего отца необычный дар — смычок для виолончели. Этот смычок и определит всю его дальнейшую судьбу. Барселона, Мадрид, Париж, Берлин — он объездит с концертами весь мир. Познает радость дружбы, безумие любви и горечь утрат; будет играть для королей и президентов; познакомится с Пабло Пикассо и одним из первых увидит знаменитую «Гернику». Будет верно служить Музыке и мучительно размышлять о несправедливости мира. И на протяжении всей жизни с ним будет его бесценный смычок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
У меня засвербело в носу: верный признак неминуемых слез. И еще Энрике рядом. Я крепко зажмурился, но это было бесполезно. Тогда я впился пальцами в края деревянного сиденья, надеясь, что в них вонзится заноза, и боль отвлечет мое внимание. Когда и это не помогло, я сам с собой затеял игру, пытаясь определить вкус струн, на которых играл Дуарте. Самая толстая, издающая самые низкие звуки струна до — горький шоколад. Рядом с ней струна соль — живая, как теплый козий сыр. Струна ре — спелый помидор. И наконец, струна ля, самая тонкая, с самым высоким звучанием, — это терпкий лимон, требующий предельной осторожности. Самые высокие ноты, исполняемые у самой подставки, могли ужалить, но Дуарте успокаивал их сладкозвучным вибрато.
Виолончель содержала в себе весь мир, который я знал, — естественный мир вкусов и эмоций — и плюс еще что-то, огромное и неведомое. Прослушав игру Эль-Нэнэ, я хотел, чтобы он сыграл еще. Но игра Дуарте внушила мне совсем другое желание: я захотел стать таким, как он.
После окончания концерта мама отослала моих братьев и сестер на улицу, а меня провела за кулисы, где я целую вечность ждал посреди моря брюк с широкими штанинами и пышных юбок с оборками. Про себя я повторял только что услышанные музыкальные фразы в отчаянной надежде запомнить их навсегда. Я чувствовал себя больным, у меня кружилась голова, — точь-в-точь как в тот раз, когда братья рискнули угостить меня глотком ликера из бутылки, которую стащили из папиного погреба.
Но вот меня подтолкнула в спину мамина рука. Любители автографов и просто благодарные зрители разошлись. Сеньор Ривера представлял меня Эль-Нэнэ, Эмилю Дуарте и скрипачу, французу Жюльену Трюдо. Я вдохнул поглубже. Они стояли всего в нескольких шагах от того места, где играли, — боги, снова превратившиеся в людей. Эль-Нэнэ — возле черного табурета у рояля, с сигарой во рту и стаканом в руке. Блестящая виолончель Дуарте, казалось, приходила в себя после изумительной игры. Она походила на соблазнительную женщину: узкая талия, подчеркнуто широкие бедра, одна рука закинута за голову.
Сеньор Ривера говорил что-то еще, я видел, как шевелятся его губы, как три музыканта вежливо улыбаются, и слышал, как они произносят что-то в ответ. Кто-то вложил мне в левую руку скрипку, и она тут же повисла, безжизненная, тяжелая. Мама протянула мне смычок. Чьи-то руки подтолкнули меня вперед. В ушах стоял грохот.
Я сделал три шага вперед и почти рухнул на ближайший стул.
— Фелю! — Я услышал голос мамы. — Фелю?
Как в тумане, я начал играть. Сначала медленно, потом постепенно входя во вкус. Да, так было легче. Я даже смог немного поерзать левым пальцем, чтобы добиться этого сладкого вибрато. Я играл, слегка раскачиваясь всем телом. То чувство, которое я испытывал во время игры, двигало моей рукой со смычком и помогало ей уверенно двигаться по струнам.
Потом я услышал смех. Это были не вежливые тихие смешки, а с трудом сдерживаемый хохот. Краем глаза я видел: Эль-Нэнэ запрокинул голову назад и широко разинул рот. Вино лилось у него из стакана на пол. Меня это не смутило: я продолжал играть и играл бы еще долго, если бы лицо вдруг не обожгло болью. Подняв глаза, я увидел нависшего надо мной сеньора Эдуардо Ривера. Щека пылала. Оцепенение исчезло. Только тут до меня дошло — с той же беспощадной ясностью, с какой пробудившийся ребенок понимает, что он намочил постель, — я играл на скрипке как на виолончели. Взгромоздил ее на стул и поставил стоймя у себя между ног. Под впечатлением от Дуарте я и представить себе не мог, что на струнном инструменте можно играть как-то иначе. А может быть, мне в тот миг провиделось мое будущее?
Музыканты продолжали заливисто хохотать, а я так и не понял, слышали ли они хоть что-то из моего менуэта. Даже исполненный в столь неправдоподобной позиции, он, на мой взгляд, прозвучал не так уж плохо. Раскаяния я не испытывал, только усталость, и Ривера, удивленный этим, снова поднял руку, собираясь наградить меня второй пощечиной.
В дни, когда школьные учителя почем зря лупили учеников, а владельцы магазинов гоняли должников метлой, одну пощечину Ривере бы простили. Но не две. И не в моей семье. Пока я играл, мама стояла рядом, держа в руках кожаный футляр от смычка. Она медленно подняла его вверх. Трио Эль-Нэнэ перестало смеяться. Мама закрыла глаза, отвела правый локоть и размахнулась. Раздался глухой стук. Кожаный футляр врезался в мерзкую физиономию. Из вечно мокрого длинного носа Рьеры хлынул поток, на сей раз алого цвета.
Мы торопились домой. Друг семьи пригласил нас погостить у него в доме на побережье, и нам еще надо было собрать вещи.
— Когда мы вернемся, мама? — спросила Луиза, пока мы распихивали одежду по чемоданам.
— Недели через три. К этому времени сеньор Ривера вылечит нос.
— А занятия скрипкой будут? — спросил я. — Он опять будет к нам приходить?
— Да, querido [8]. И нет, — сказала она.
И вдруг засмеялась так, как не смеялась уже много лет, — громко, бурно, заразительно. Этот смех напомнил мне взлет стаи вспугнутых птиц, устремляющихся кто куда, ведомых каждая своей надеждой.
Мы уже стояли в прихожей с чемоданами, когда в дверь постучали. Мы, дети, дружно посмотрели на маму, заметив, как она напряглась. Из-под тяжелой деревянной двери пробивался неверный свет, в котором плясала тень от чьих-то ног. В широкой щели мелькнули грязные пальцы — это мальчик-посыльный просунул в нее конверт.
Как ни странно, мой неудачный дебют произвел впечатление на Эль-Нэнэ. У него нашлось время, чтобы написать письмо с рекомендацией к настоящему учителю игры на виолончели в Барселоне. Пианист подписался полным именем — Хусто Аль-Серрас (я и не знал, что у него есть другое имя, кроме Эль-Нэнэ) — и внизу пририсовал свой шаржированный автопортрет размером с песету.
Мама улыбнулась, прочитав письмо, но нахмурилась при виде карикатуры. Затем сложила листок и велела нам подождать, пока она положит его в семейную Библию, рядом с последним письмом отца.
— Барселона, — произнесла она. — Это далеко.
Мы молчали, но я все еще чувствовал тепло маминого смеха. Будущее оставалось неопределенным, но в нем хотя бы появилось что-то живое. Пусть кости моего отца лежали, обращаясь в прах, в земле, больше не принадлежащей Испании. Мы продолжали жить.
Глава 3
После возвращения с каникул я был рад, что мне не придется больше заниматься музыкой с сеньором Риверой. Но ближе к Рождеству меня начала грызть тоска — так хотелось взять в руки инструмент.
— Когда я начну учиться играть? — приставал я к маме.
— У нас нет виолончели, Фелю.
— Можно на скрипке.
— А кто будет с тобой заниматься?
— Я же скоро состарюсь! — воскликнул я, восьмилетний, и мама рассмеялась.
Но месяцы шли, я продолжал приставать к матери, однако добился только одного: в ответ она больше не смеялась и не ерошила мне волосы.
Настало новое столетие с его одержимостью новизной и быстрыми решениями. В Испанию хлынули молодые музыканты из Англии, Австрии и России. Девчонка из Америки, младше меня, виртуозно играла на виолончели — моей виолончели, думал я, и от этой мысли мне делалось тошно. Ни один из известных исполнителей не снизошел до нашего городишки. Я узнавал о них из газет и афиш на железнодорожной станции. «Мадрид — Севилья — Гранада — Кордова — Валенсия — Барселона». И никогда — Кампо-Секо.
Если мне случалось столкнуться с Эдуардо Риверой, он переходил на другую сторону улицы или делал вид, что не замечает меня. Он брел понуро, одинокий, несчастный человек, и мне порой хотелось догнать его и крикнуть: «Мне тоже очень плохо!»
— А Барселона далеко? — донимал я мать.
— Очень далеко.
То же самое она говорила о пляже, на который мы недавно ходили:
— Я не смогу нести тебя на руках, если на обратном пути ты устанешь. Ты уже большой.