Ты или никогда
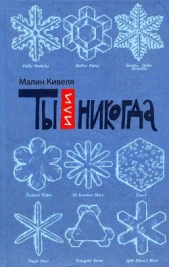
Ты или никогда читать книгу онлайн
«Ты или никогда» — наблюдение за уединением человека среди людей, о красотах и странностях одиночества, о кульбитах памяти. Словом, в лучших традициях северной прозы. Айя — героиня с прошлым, умещающимся в одной шкатулке, интересуется всем молчаливым — растениями, умершими рок-звездами, литературой и снежинками. У Айи есть знакомцы — люди, за которыми она отстраненно наблюдает, не приближаясь, словно ученый из другой галактики, засланный на Землю с естествоиспытательскими задачами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В паровой бане напротив парятся мужчины и женщины, сидеть в купальнике запрещено. Мой купальник большой и черный. Выцветший на солнце, на неведомых веревках для белья. Под дверью клубится эвкалиптовый пар, белый, сквозь стекло двери ничего не видно, кроме белого. Во все щели проникает смех и болтовня, мужские, женские голоса, смешливые. Говорят о собаках, о летних праздниках на острове. Шнапс и селедка, лодка. Плывущая собака, лопнувшая бельевая веревка. Они смеются, светлые, шумливые. Я подхожу ближе, прислушиваюсь. Вдруг дверь распахивается, из парной выходит кто-то молодой, красный и голый, дверь распахивается прямо мне в лицо, женщина говорит — извините, и уходит.
Можно пойти дальше, пройти мимо, можно идти быстро, можно подойти к крану у самого пола и дезинфицировать ступни, избавляясь от возможного ногтевого грибка, долго. Можно сушить волосы, можно бросить евро в автоматический фен, потрясти его, убедиться, что он не работает.
В кафетерии на верхнем этаже можно есть пончики с малиновым вареньем, а на 437-й странице Уилсон Бентли организует публичную лекцию в родном городке. Для этого вечера он отобрал самые большие снимки самых красивых снежинок, чтобы проецировать изображения на стену. Он хочет показать соседям и друзьям, чем занимается. И почему. Ведь он всегда чувствовал, что производит на них впечатление odd или crazy или both. [11] Вход на лекцию свободный. Погода ясная. Он сварил кофе на дровяной плите. Еще раз протер аппарат. Вымыл шею и надушился несколькими каплями одеколона своей матери.
Приходят два человека.
Остальные отправились на службу в церковь.
Рассказывая об этом спустя много лет в интервью, он улыбается терпеливой улыбкой with a trace of bitterness. [12]
— It was free, mind you! — говорит он. — And it was a fine, pleasant evening, too. But they just weren’t interested. [13]
По дороге домой я вижу детей в колясках, устланных овечьими шкурами. Прохожие укутали щеки шарфами, защищаясь от холода. Это недальновидная мера, так как выдыхаемый воздух быстро пропитывает шарф влагой, а при такой температуре влага незамедлительно и неизбежно превращается в лед. Пряди моих волос, выбившиеся из-под шапки, застывают множеством сосулек, тонких. Дома я тру их кухонным полотенцем, и они торчат в разные стороны, спутанные, хрупкие.
9
О прошлом нам ничего не известно, лишь немного о будущем. О прошлом нам ничего не известно, лишь то, что просвечивает сквозь поры. Потому мы и держимся за настоящее.
За данные обстоятельства.
Наше фактическое положение на земном шаре и действительный для нас климат как естественное и вполне объяснимое следствие. Текущий момент как единственно действительный, в отличие от нематериальных воспоминаний или надежд, наименее подверженный влиянию защитной дымки наших иллюзий.
Всегда в это время года: недостаток света. Данного числа данного месяца, в этих широтах. Рассвет розовым намеком на горизонте. Рассвет, продолжающийся до трех пополудни. Вот и все. Невнятное движение неуверенного розового рассвета, с каждым часом все более серого, пока черное вновь не поглотит все вокруг. Намек на солнце за слоями облаков, вечно низкими, ползущими вперед по тому же маршруту, что и год назад. Все больше и больше серого, все это могло быть год назад. Или сорок тысяч лет назад.
Я не фанатик. Пусть мои клумбы линейны, а книги на стеллажах расставлены в алфавитном порядке, даже симметрия не религия для меня. Я лишь заметила, что жизнь протекает более ловко, если установить некоторые правила и следовать им. Некоторые правила, на которые можно опираться. Которые не призваны побороть необоримое: солнце и потребность человеческого организма в кислороде и воде, пище и сне. Потребность растений в солнечном свете, углекислом газе и воде. Одни и те же потребности объединяют все общества, невзирая на широко распространенные мечты о революции. Время бесконечно, неизмеримо и безмерно, как и пространство, но каждый отдельный индивид чем-то ограничен. Если достаточное множество людей утверждает, что сегодня понедельник, то сегодня понедельник. Если не придавать значения тому, что сегодня понедельник, то ты выпадаешь из множества тех, кому есть дело до понедельника. У нормального человека есть воля и способность к самовоспроизведению. Причина, если не считать тепла, излучаемого кожей, сокрыта во мраке. Заканчивается все так называемой смертью, для всех, может быть, даже для всего, рано или поздно, это и есть главная демократия.
В том саду, который я однажды видела, были скамейки, зеленые и облезшие, и мостики, на которые можно выкатывать кровати стариков и умирающих, чтобы они видели молодые растения. Над мостиками были арки из вербы и вьющейся розы, арки, которые вырастил садовник (древний, с ветвистыми руками). Растил годами, ради умирающих; вокруг ствола одной из старых бесплодных яблонь вьется синий клематис. Растения тоже умирают. Умирают, обращаясь в прах, как и люди, но это вплетается в жизнь иначе — мало кто оплакивает их, это просто доказательство того, что круг снова замкнулся, что начнется новый виток, и это полностью и неизбежно естественно.
Говорят, что и людям нужен солнечный свет. Если бы это утверждение было истинным, то смертность в этом месте в это время года была бы стопроцентной. Деревья прячут свою жизнь в стволах и хранят хлорофилл на протяжении всей зимы. Люди укутывают тела шерстью и мехом, пряча под ними все, что только можно, и выживают, как могут.
Воздух в трамвае горячий. Под каждой второй скамейкой есть батарея, исторгающая жар прямо в зимние сапоги, в шерстяные носки, под полы одежды и шарфы. Наконец мне удается разглядеть в запотевшем окне что-то желтое, и я протискиваюсь к сигнальной кнопке сквозь плоть и меха, держа перед собой сумку. Двери со скрипом раздвигаются, и я приземляюсь в сугроб. Когда вид проясняется, я уже отчетливо вижу желтое и буквы: СУМАСШЕДШИЕ ДНИ! ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ! Не глядя ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево, я быстро иду к вращающимся часам, где целый город ждет назначенной встречи именно в эту минуту — 11: 18.
Я покупаю сига по обычной цене и пару синтетических гетр за два евро. Не дойдя метра до выхода, я приобретаю также сковородку за три евро.
Я иду к остановке на противоположной стороне, чтобы сесть в трамвай и уехать домой. За моей спиной три кузнеца, воздевшие свои молоты. И вот идет снег, «иглы», от минус трех до минус пяти, как белые волоски на воротниках. Трамвай приходит и уходит.
«Три кузнеца» — скульптура немаленькая, а снегопад можно назвать сильным. Но я все-таки вижу.
Такая оранжевая.
На фоне всего остального.
Оттуда — голоса, кожаные шапки.
Отверстие входа широко распахнуто, трепещет.
У самого входа в палатке стоит столик, служащий прилавком, за ним пара скамеек, несколько крючков для одежды и фартуков и круглая печка с противнем для жарки, похоже, Castanea sativa. Серебристая лента теперь приклеена по сторонам, чтобы удержать трепещущую ткань. Вблизи этот запах, тот самый запах, состоит из жирного и горелого. За прилавком стоят двое мужчин. Дуют на руки. Прилавок высокий. Как будто мне по брови.
— Да? — произносит тот, что крупнее, стоя спиной ко мне.
Худой не двигается, пожевывает спичку. Зубы у него длинные и черные.
Сняв перчатку, я указываю на прейскурант — листок в клетку, исписанный от руки и приклеенный к прилавку.
— Обычное? — спрашивает большой по-русски, повернувшись ко мне. Под шапкой лысина. Живот выглядывает из-под майки. Фартука нет.
Я киваю.
— Yes?
Он насыпает пятнадцать Castanea sativa с горячего жестяного противня в кулек из вощеной бумаги и протягивает мне. Кулек падает к моим ногам. Я наклоняюсь, чтобы поднять, а потом отдаю ему деньги. На рукаве, обтягивающем стертые костяшки пальцев, дырка как от моли. Каштаны горелые, блестящие. Внутри белая мучнистая мякоть. Я закрываю кулек, кладу в сумку. Снаружи у палатки на расписном футляре сидит третий.

























