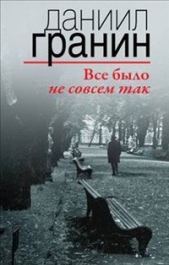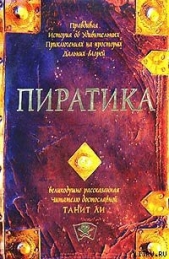Моя другая жизнь

Моя другая жизнь читать книгу онлайн
«Моя другая жизнь» — псевдоавтобиография Пола Теру. Повседневные факты искусно превращены в художественную фикцию, реалии частного существования переплетаются с плодами богатейшей фантазии автора; стилистически безупречные, полные иронии и даже комизма, а порой драматические фрагменты складываются в увлекательный монолог.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы же тогда думали, что белые люди вроде привидений и хотят нас сожрать. Но папа сказал: «Нет, этот белый — хороший».
— А что делал здесь твой отец?
— Болел mkhate.
Проказой.
Вскоре появился отец де Восс. Из-за отстраненности, рассеянности, некоторой мечтательности на всем его облике лежала печать мягкой доброй печали.
— Много собралось народу?
— Мессу посещают далеко не все.
— Я, пожалуй, пойду?
— Как хотите. — Ему действительно было все равно.
— Я хотел бы приготовиться к урокам. Пора приступать.
— Дело благое, — отозвался отец де Восс. — Но можно не торопиться. — Он грустно улыбался и глядел в окно. — Желаете посмотреть нашу церковь?
Он так хотел показать, что я с готовностью согласился.
От дома до церкви было рукой подать: она стояла, большая и пыльная, на другом склоне того же холма.
Внутри по стенам чадили сальные свечи, пахло пламенем и оплывающим салом. На окнах кое-где были витражи, а развешанные в простенках деревянные барельефы, остановки Крестного пути, явно сотворили местные умельцы.
— Прокаженные сами сделали. Неплохо, а? Грубая работа, но выразительная.
Он оглядывал церковь с кривоватой усмешкой, слегка даже скептически, точно сомневался, стоит ли за этими символами хоть что-то. Потом кивнул на гипсовую статую:
— Святой Рош. Известно вам, кто это такой?
— Нет.
Отец де Восс улыбнулся, но рассказывать не стал. В церкви были и другие статуи, и искусственные цветы, и небольшие позолоченные украшения, но они ничему не мешали: свет лился в треснувшие окна, придавая помещению аскетичную святость.
— А где больница?
— Хотите взглянуть? — Отец де Восс отчего-то удивился моей любознательности.
С самого приезда, со вчерашнего вечера, я все время слышал звуки деревни. Точно костер, она то тлела, то разгоралась и потрескивала у подножья холма. Говор, восклицания, смех, кукареканье петухов, которых африканцы называют tambala; стук пестиков в ступах, где женщины перетирали маис в муку, ufa, чтобы печь из нее основную свою пищу, лепешки. Помимо звуков, деревня источала смесь запахов: ясный — дымного очага и смутный — сладковатого распада человеческой плоти; пахло болезнью, хрупкостью жизни, скорой смертью. Впрочем, все это был запах грязи.
Отец де Восс туг же принялся знакомить меня с монахинями, словно привел в дом незнакомца и спешит теперь представить его супруге и домочадцам. На них он даже не смотрел, имен их не называл, только объяснял, кто я и откуда взялся.
— Пол настоятельно попросил показать ему больницу, — добавил он. — Как вы знаете; это не моя епархия.
Он тихонько засмеялся и ушел обратно в дом.
Так, обиняками, он дал мне понять, что больницей ведает не он, а монашки. Их удел был куда тяжелее: врачевание в саванне — не мессу служить, это дело особое — скальпель, швы, дезинфекция… А прокаженные выстраиваются в бесконечную очередь: кто на перевязку, кто за таблетками.
Главное больничное здание под жестяной крышей служило, вместе с верандой, разом амбулаторией и аптекой — так объяснила мне самая старая монахиня. В других зданиях рядами стояли койки — для тяжелых больных, для одиноких беспомощных калек. В большинстве же своем прокаженные жили по своим хижинам, и ухаживали за ними родственники. По утрам больные получали лекарства — за исключением нескольких лежачих, прикованных к постели, — днем стягивались в амбулаторию на перевязку и уходили потом в деревню.
Монахиня водила меня повсюду, что-то втолковывала, а я думал об одном: как же здесь необычно, странно. И это слово «проказа». Проказа, проказа, проказа.
В одном из зданий я увидел женщину, о которой рассказывал Симон: медсестру-mzungu по прозвищу Пташка. Она перевязывала ногу прокаженному — крепко-накрепко, точно посылку. На стене тикали дешевые часы с грязным жестяным циферблатом.
Женщина была постарше меня, вероятно лет тридцати, худощавая, с изжелта-бледной кожей; такой нездоровый цвет непременно приобретают лица серьезных белых людей, поселившихся в африканской саванне. Собственно, солнцу подставляются только дураки, остальные же, как эта женщина, работают под навесами и на открытое место носа не кажут.
Она сидела и мерно наматывала на ногу больного повязку из старой рваной тряпки; я подошел, улыбнулся. Она же в ответ не улыбнулась, точно рассердилась на монахиню, которая водит по больнице непрошеных гостей и мешает работать. Есть у белых, приехавших служить в саванну, еще одна черта — неоправданная суровость; видно, им мнится, что жесткий режим придает осмысленность их существованию.
В той Африке, которую я знал, было принято знакомиться, не дожидаясь представления. И я сказал:
— Здравствуйте, меня зовут Пол.
— Линда, — отозвалась она. — Правда, здесь меня зовут Пташкой.
— Очень мило.
— Это из-за фамилии. Фамилия у меня птичья. Вы только что приехали?
— Вчера, на поезде.
— Жуткий поезд.
— А мне понравился. Меня вообще нелегко напугать.
— Тогда вам здесь самое место. Верно, сестра? — обратилась она к монахине.
Та улыбнулась, но довольно мрачно. У нее была тончайшая пергаментная кожа, очень бледная и морщинистая, над верхней губой темнели усики; руки — по локоть в резиновых перчатках.
Мне стало неловко: стою тут, праздно глазею на этих женщин, а для них этот ужас — ежедневная работа.
Пташка все еще трудилась над ногой прокаженного: затягивала узел, заправляла торчащие концы подвязки. На соседней койке застонал больной. И руки, и ноги его были обмотаны кусками грязной, с потеками холстины; из подошвы сочилась розовато-бурая жидкость.
— Чем собираетесь здесь заниматься? — поинтересовалась Пташка.
— Обучать английскому всех, кто захочет.
Она молча перешла к следующей койке, туда, где тихо постанывал больной. Приподняла его ногу и начала срезать бинты. Она все молчала, и я заподозрил, что сморозил глупость.
Монахиня же заметила:
— Ваши уроки наверняка будут пользоваться успехом. — Она принялась обрабатывать другого больного. А мне — среди вороха грязных бинтов — разговоры об уроках английского показались неуместно игривыми.
Пташка мастерски орудовала острым ножом, вскрывая, точно конверт, запечатанную промокшими бинтами ногу.
— Они плетут корзинки, — сказала она, — и красят их чернилами из старых шариковых ручек. Уродливые корзинки.
— Много лет назад они сами делали краски, из ягод, — заметила монахиня. — Удивительно красивые краски, мы даже пользовались ими в церкви.
— У вас тут, похоже, много работы, — вставил я.
— Прокаженных сотни четыре, да еще их семьи, считайте, тысячи две народу, — ответила монахиня. — Немало, конечно. Люди отовсюду, со всех концов страны. С севера, из племени тумбуки, еще из племени агонис, это совсем рядом, да еще племя сена, с Нижней реки. Есть даже яо, магометане из Форт-Джонстона.
— И вы принимаете всех?
— Конечно. — Она ловко бросила в корзинку снятые бинты. — Из родных деревень их выгнали: слишком много суеверий и предрассудков связано с этой болезнью. Да и немудрено, ведь проказа была неизлечима. Люди страдали, а обращались с ними чудовищно.
— На самом деле болезнь не очень-то и заразна и лечится легко, — подала голос Пташка. Она тоже снимала сейчас последние бинты, обнажая страшные язвы на ступне пациента. — Никто из нас заразиться не может. Но даже когда эти люди выздоровеют, домой почти никому дороги нет. Из-за шрамов. Человека без пальцев африканцы все равно считают больным.
Она бесстрастно обрабатывала сейчас как раз такую беспалую ногу, промокая язвы влажной ваткой. Мне очень хотелось узнать, что ее сюда привело.
— Это последняя страшная болезнь в Африке, — сказала Пташка, словно прочитав мои мысли. — И она излечима. Когда она исчезнет, с этой земли спадет проклятье, потому что хуже уже ничего не будет.
— Всем бы Пташкин оптимизм, — проговорила монахиня.
— Но эти люди остаются у вас на всю жизнь.