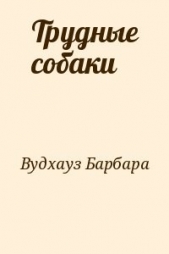Стрекоза, увеличенная до размеров собаки

Стрекоза, увеличенная до размеров собаки читать книгу онлайн
В России, где мужчины из поколения в поколение гибли в войнах, пропадали в ссылках и тюрьмах, спивались, чисто женская семья — явление обыденное, но от этого не менее трагическое. Роман молодой уральской писательницы Ольги Славниковой посвящен истории взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе. Шаг за шагом повествование вводит нас в `тихий ужас` повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. И дело здесь не только и не столько в бытовых условиях, мешающих обустроить личную жизнь двух женщин. В фатальное противоречие вступают мысли и чувства, но эта борьба искусно замаскирована флером внешних приличий. И лишь пристальный взгляд способен увидеть истинное положение вещей. Так хорошенькая безобидная стрекоза под беспристрастной оптикой превращается в страшного прожорливого хищника…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
глава 10
Лет, наверное, пять или шесть продолжалось это тихое существование. Баб возле Кольки не водилось никаких, бельишко его, отдаваемое матери в стирку аккуратным тючком, было по-детски безупречно. Комариха, слышавшая кое-что о дальневосточных сопках, начиненных ракетами против китайцев, уже опасалась, что Колька служил на «точке», отобравшей у него силу мужика. Все-таки она надеялась, что дочке учительницы, будет необязательно то, чего, наверное, показалось мало оторве Раиске; в крайнем случае хватит раз в полгода, чтобы только завести детей, но внезапно дела приняли новый оборот.
Колька с Маргаритой поженились скромно, не дожидаясь Колькиной квартальной премии; дамы из отдела информации, ненавидевшие Маргариту теперь уже совершенной и полной ненавистью, так горели желанием увидеть ее жениха, что сбросились по десятке и позвали молодых после загса заехать на службу, чтобы принять поздравления коллектива. Колька, все в том же коричневом костюме, держался прекрасно и по очереди тыкался губами в дамские, лебедями изогнутые ручки, отчего растроганные дамы долго чувствовали приятную томность и крупную тяжесть своих дорогостоящих колец. Это не мешало, а скорее помогало им свысока глядеть на Маргариту, чье неуклюжее платье из дешевого атласа выглядело едва ли не желтым по сравнению с тюлевой фатой, которой хватило бы, наверное, на целое окно. Этот грубый, словно вывернутый наизнанку ворох, кое-как устроенный на узкой, осторожно несомой головке, вызывал особо тонкие улыбки дам, бессознательно относивших фату к КГБ и к Маргаритиной так называемой невинности: фата была для них сейчас как символ организации, полной отутюженных женихов на все размеры, с сорок четвертого по пятьдесят шестой.
В будущих семейных Маргаритиных раздорах дамы сразу и решительно взяли сторону Кольки, в знак чего самая важная из них, сжав провисшее плечо новобрачного, поставила на его щеке аккуратную розочку помады. Начальник отдела вручил молодоженам изукрашенный, в фальшивых медалях, чуть ли не коронованный самовар, работавший на самом деле как электрический чайник, и, заводя глаза под сияющий лоб, пятясь на плюшевое знамя, прочел наизусть стихи о любви. В стороне, поражая высоченным кривобоким ростом и черной бородой, отросшей словно у покойника, тихо улыбался отдельский художник Сергей Сергеич Рябков. Он работал давно, но будто только сейчас возник среди коллег — впрочем, он всегда был какой-то не совсем достоверный, принципиально отсутствующий, с ним не находили темы для разговора и, пребывая подолгу в одном помещении, здоровались по нескольку раз. Он будто изображал собою, своим дощатым телом и обликом местного производства, нечто иное, едва ли не историческую личность, — и эта двойственность становилась порою настолько нестерпима, что местный человек в Рябкове, сдающий себя в аренду и всего лишь немного угнетенный, представлялся дамам отдела как исключительный негодяй.
Теперь наконец Маргарита вполне удовлетворила свое желание быть вместе изаодно. Молодые действительно зажили счастливо — на ветхой раскладной тахте, сумевшей только раз, после многих скрипучих качаний, разломить ревматический угол своих половин, откуда выпала пакля многолетней пыли и старый карандаш, Этой плоской лежанки, потертой стенки с удивительно живым узором на открывшейся части обоев молодым оказалось вполне достаточно. Казалось, они могли найти прибежище возле любого предмета и куста, хоть в городе, хоть в чистом поле, — и действительно, какой-нибудь забрызганный столб или киоск, закрытый на обед, частенько служил им поводом остановиться и завести беседу, умиротворенно поглядывая на прохожих. Сохранный и общий предмет был как бы третий у них, они за него держались, но в принципе не нуждались особенно ни в каких вещах. Молодые завели привычку есть из одной тарелки, небрезгливо пить из одного стакана, а после Маргарита в нем же разводила удобрение для цветов или разбалтывала яйца, которыми мыла голову, оставляя в мутной посудине липкие волоски.
Если до ее переезда на проспект в хозяйстве Комарихи все же сохранялся порядок и каждая вещь служила для определенных целей, то теперь кухня смешалась с ванной и с обеими комнатами, вещи утратили свое назначение и стали забавные, будто отданные в игрушки. Больше не имея задачи изображать и выражать самих себя, вещи сделались просто деревом, нержавейкой, фарфоровыми черепками, употребляемыми так или иначе в зависимости от сиюминутных нужд. Безымянность вещей окружала молодых, и они, чего-нибудь захотев, просто протягивали руку и не заботились, чем окажется предмет на следующий раз, не выбирали, не вытирали грязи, хранившей в сумраке квартиры множество отпечатков их простодушной жизни, подобных зверушечьим или птичьим. В этом талом сумраке, с извечной длинной лужей из-под холодильника, выбелившей линолеум до самых дверей, с засохшими тряпицами, валявшимися там, где что-то затирали на полу, ничто не проходило просто так, все, что ни сдвинь, оставляло следы — не отличимые, если не помнить, от других бледнеющих потеков и кругов, но сразу взывавшие к памяти. В квартире словно бы стояла вечная и грязная весна, створы форточки висели криво и надтреснуто колотились, волнуя занавески. Подчиняясь весне, Маргарита писала на стенках простым карандашом разные заметки, даты, и они серебряно рябили, придавая кляксам, брызгам и паутинам таинственный и вместе житейский, человеческий смысл.
Собственно, Маргарите и Кольке были чужды общепринятые изъявления человеческих чувств, им хватило бы просто сидеть и говорить о чем угодно — но тем усерднее они, словно стараясь для каких-то наблюдателей, гладились и обнимались, изучали друг друга, обращая внимание на новые подробности, вроде сломанного ногтя или загара, делавшего Кольку с его веснушками похожим на жареный помидор. Чтобы перейти к настоящим супружеским ласкам, им требовалась какая-нибудь неожиданность, это нельзя было планировать заранее. Но и в обычное время они почти не разнимали рук, их герметичные поцелуи выглядели так, будто выкручивалось и отжималось небольшое полотенце. Казалось, будто они специально хотели надоесть друг другу до смерти, чтобы наконец поссориться и отдохнуть, — и случалось, играли в ссоры, опять-таки изображая в лицах каких-нибудь общих знакомых. Правда, иногда у Кольки проскакивала беспомощная и визгливая, явно привезенная от Раи интонация, — тогда он убегал с перекошенным лицом и долго курил в ванной, сидя на заваленной драными газетами стиральной машине, а Маргарита курила под запертой дверью, сбивая пепел в майонезную баночку и побрякивая холостой задвижкой, не входившей в разболтанный паз. Эта дверь, растресканная на плахи с кусками белил, закрывалась только с одной стороны, и это способствовало примирению, после которого молодые не оставались дома, а, поспешно натянув хорошую одежду, отправлялись на люди, напоказ, чтобы там утвердить свое супружеское согласие.
Колька и Маргарита взяли за правило каждый месяц бывать в театре. Там, отсидев отделение перед пышной сценой, где, по сравнению с телевизором, буквально терялись маленькие певицы и певцы, они в антракте чинно прогуливались по фойе среди поблескивающей публики, с удовольствием слушая нестройные звуки инструментов, трубивших и чиликавших в освещенной оркестровой яме, будто целый музыкальный зоопарк. Маргарита была по-настоящему счастлива в театральных закоулках, в пустых и светлых тупичках с боковыми лестничками, где можно было поцеловаться и покурить; она казалась себе такой же, как нарядные дамы, стоявшие на полированном полу в безупречных туфлях, величаво обособленные зеркальным сиянием плит и своим на них неверным отражением. Из-за этой зеркальности под ногами все шагали здесь немного искусственно, будто танцевали, и Колька, держа Маргариту под руку совсем не так, как Катерина Ивановна, выступал торжественно, с разворотами, выпростав на кисти, несомой перед грудью и глазами, новые часы.
Специально для театра Маргарита сшила в ателье черное дорогое платье из шерстяного крепа по тридцать рублей за метр — точь-в-точь как на высокой большеротой красавице, отчего-то плакавшей в фойе перед макеткой сцены из «Онегина», переглатывая белым горлом и трогая платочком радужные яркие глаза, застилавшиеся и тут же пустевшие. Маргарите смутно понравилось, что красавица плачет, это было так театрально, тем более что не имело никакого отношения к пыльной крашеной макетке со спичечной мебелью, на которую незнакомка глядела не отрываясь, — и Маргарита заказала себе точно такое же платье с вырезом и разрезом, с узкими трагическими рукавами. В нем она настолько нравилась себе, что, заметив себя в каком-нибудь зеркале, тотчас направлялась туда, — и было что-то головокружительное в этом сближении с собой, в абсолютной точности и неизбежности слияния на поверхности холодного стекла; если бы Маргарита увидала вот так свое отражение в озере, она бы, наверное, утопилась от счастья, чтобы не быть по эту, житейскую сторону своей красоты. В подобные высокие минуты, когда у Кольки расправлялись плечи параллельно протертым и прилаженным очкам, Маргарита думала, что это не они, обыкновенные и маленькие ростом, переживают такую любовь, а какие-то другие люди — возможно, люди будущего,: люди коммунизма. Ей чудилось, что она и Колька всего лишь изображают тех прекрасных людей и потому обязаны показываться парой, показывать чувства, нагнетая их взаимным горячим трением, — точно так же, как начальник отдела, парторг и другие высокие товарищи, которых Маргарита не знала, изображают коммунистических строителей, носят чужие качества, чтобы спасти их от небытия до лучших людей и времен.