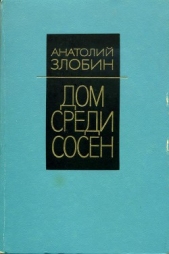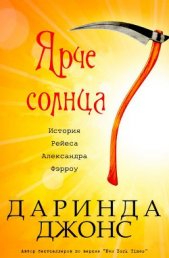На исходе дня
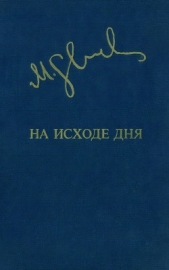
На исходе дня читать книгу онлайн
Роман На исходе дня — это грустная повесть о взаимосвязанной и взаимозависимой судьбе двух очень разных семей. Автор строит повествование, смещая временные пласты, не объясняя читателю с самого начала, как переплелись судьбы двух семей — Наримантасов и Казюкенасов, в чем не только различие, но и печальное сходство таких внешне устоявшихся, а внутренне не сложившихся судеб, какими прочными, переплетенными нитями связаны эти судьбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не болит? Скажи, не болит у тебя?
— О чем ты, глупышка? Не теперь…
— Погоди, погоди! А в плече боль не отдается? В затылке?
— Видишь, терплю. Значит…
От ласково-беспокойных прикосновений руку действительно начинает покалывать. Пытаюсь крепче обнять Владу, растопить остатки сопротивления, а заодно и свой страх. Но рука, ощущаемая отдельно от тела, мешает, она по-прежнему моя и уже какая-то чужая, опасная, ищущая особое, удобное положение. Как я мог забыть о ней? Ведь болела, даже в плечо отдавала, только я внимания не обращал.
— Ригутис! Все, что скажешь, сделаю… Ну, с этим, с ребеночком! — Влада больше не отстраняется, не пытается ускользнуть из объятий. — Только, пожалуйста, прошу тебя! Покажи палец отцу!.. Покажешь?
Наконец оборвала она путы, из-за которых страдала не меньше, чем я, и прижалась ко мне, словно были мы друг с другом в последний раз. Сначала не связал я свой раненый палец и ее согласие сделать по-моему с «ребеночком». Мелет вздор, ну и пусть, вероятно, все они одинаково ведут себя в таком положении. Уже подремывая на моем плече, она все еще шептала что-то об ампутации пальца у ее знакомой…
— Люблю, люблю тебя… Покажешь?
Из двух грозных бед моя рука — большая? Или Влада женским своим чутьем видит дальше, чем я? Чувствую, что совсем не рад вырванному у нее согласию сделать по-моему… Часом раньше — с ума бы сходил от радости. Почему? В руке стреляет, до самого плеча отдает. И пусть я знал, что беспокоит меня не столько физическая, реальная боль, сколько воображаемая, все-таки брала оторопь.
Оторвался от Влады, приказал, чтобы ждала, и метнулся из гаража. Рука ноет, кишит в ней небольшой жалящий рой, кучка горящих углей. Так недавно лелеял я в душе смелые замыслы, только что боролся с занесенным над ними топором, а самая большая для меня опасность, оказывается, зрела во мне самом, в моей плоти.
Как невозможно, чертовски невозможно предвидеть все в человеческой судьбе!
Пот заливал грудь, стекал по животу, даже резни ка трусов намокла. Собственное тело было мне противно, его насквозь пронизывал страх, словно было оно пористым. Казалось, люди шарахаются не от бегущего человека — от кишащего микробами трупа. Пока таятся они возле ногтя, но скоро невидимыми полчищами расползутся по всему телу, изгоняя жизнь, умерщвляя клеточку за клеточкой. Сызмала боялся я крови, гноя, однако тот давний страх — лишь шорох пены на мягком песочке по сравнению с надвигающимся грохотом океанского девятого вала.
— Звонила Глория. Ваш сын, доктор. Пустить? — Нямуните улыбнулась забытой улыбкой, которую берегла для близких Наримантасу людей.
— Чего ему? Подождет. — Прикрикнув на плачущую больную, чтоб не дергалась, Наримантас зажал пальцами созревший нарыв, надавил. Брызнул гной. — Как тут не быть температуре! А они — снимок легких…
— Постойте, доктор! Сын испугается! — Нямуните потянула его назад, в перевязочную, заботясь не о Ригасе — о нем, радуясь волнению, которого не нужно было в себе подавлять. В руках ее, любящих чистоту и порядок, зашипел пульверизатор. Влажные брови Наримантаса недовольно нахмурились — ведь Ригас немедленно учует, что женскими духами пахну. Черт знает что вообразит! Вытираясь, он старался прогнать этот запах, будто бы сражался с их общим прошлым, которое, казалось ему, спилил, словно садовник обломанную, не выдержавшую бремени плодов ветвь. То, что мог подумать о них сын, как бы поднимало и подпирало эту уже порядком увядшую ветку. Невеселые думы о Нямуните спасли от еще более печальных мыслей о причинах возможного появления Ригаса, тонувших в мареве предположений, подозрений и предчувствий. Густой это был туман, солнечные лучи не могли разогнать его.
Пританцовывая и повизгивая от смеха, в перевязочную впорхнула сестра Глория. Казалось, выиграла в лотерею красивого парня, и тот, не замечая, что она глупа, согласно вторит ее бездумному хихиканью. На самом же деле Ригас испытывал ужас, заставивший его забыть обо всем на свете.
— Глория, миленькая, проводи больную в палату, — вежливо, но достаточно строго приказала Нямуните. Глория неохотно впряглась в охающую толстуху — неожиданное появление в больнице докторского сынка пахло приключением.
— Что такое? Что с тобой, Ригас? — Не только Наримантаса, но и Нямуните пронзило подозрение: за ним гонятся, совершил что-то недозволенное, может быть, деньги?.. Таким вечно не хватает денег.
От него ждали признания и эта сестра, которой до сих пор не вернул долга — срам какой, завтра же принесу! — и коллега отца Рекус — бородатый фанатик с глазами младенца, и, конечно, сам отец — лицо злое, будто уже стоит с узелком передачи перед воротами тюрьмы, скорбя не о сыночке, о своих больных, от которых вынужден оторваться. А Ригас, забыв, как звучат слова оправдания, только сипел. Горло пересохло.
— Что это у вас? Порезались, уважаемый? — Рекус повел бородой, указывая на обернутый носовым платком палец, и все они уставились на его руку, и Ригас тоже, вдруг вспомнив, зачем и почему бежал сюда, поглядел на свой палец, только не сразу сообразил, откуда платок, пока в памяти не мелькнуло пухлое широкоскулое лицо. Он встряхнулся, как бы отгоняя от себя видение: вот в чем его вина, вот в чем следует признаваться, но никто не требует этого признания, их интересует только его палец, он теперь важнее всего, Нямуните так навалилась, что слышно, как под халатом потрескивает ее лифчик, брови отца, подскочив было вверх, успокоились.
— Развяжите, сестра, — попросил Наримантас. С его Ригасом случилось то, что происходит с сотнями людей, когда они зазеваются. Пахнуло прохладным ветерком облегчения, на стену падал отблеск догорающего заката — идиллия, да и только! — но Ригас наступил на скользкий комок окровавленной ваты, поскользнулся… и побелел.
— Идемте-ка в другое место, — нежно и твердо взяла его под локоть Нямуните, и он мгновенно повиновался, проникся к ней доверием, которое тут же могло превратиться в подозрительность, если бы она чуть промедлила. Опираясь на ее руку, он казался моложе, однако что-то в его облике свидетельствовало: этот парень уже вкусил от запретного плода, он уже не мальчик. В широких плечах, крепкой шее, свободно вьющихся волосах чувствовалась мужественность, которую его отец скрывал под белым халатом.
— Копался в машине. Болт никак не поддавался, налег я, ключ сорвался, и вот…
Не отцу рассказывал, не Рекусу — Нямуните, признавая ее превосходство здесь, где все — блеклые стены, бледные лица, хилые цветочки в бутылках из-под кефира — лишь подчеркивало атмосферу больницы. Лучше держаться поближе к сестре, к ее ритмичному дыханию, не знающему сомнений голосу.
— Сколько дней с таким пальцем ходишь, герой? — Наримантас понюхал палец, запах ему не понравился. — Думал, пустяк? Ха! — хмыкнул отец, передразнивая его, Ригаса. Плечи парня вздрогнули. — Не слыхал, какие последствия бывают от таких пустяков?
— Доктор!.. — Нямуните укоризненно глянула на Наримантаса, потом перевела взгляд на Ригаса, несколько побледневшего при электрическом свете, отец щелкнул выключателем, пробубнив, что темно, и уже не женским, а хлынувшим откуда-то из глубины материнским чутьем поняла Нямуните незащищенность юноши. Ни вызывающий, свидетельствующий якобы о всезнании вид, ни мужественность, словно бы зачеркивающая юность, ни, наконец, наглый взгляд сводника, которым он еще недавно связывал в одно целое ее и Наримантаса, ничто не помогало сейчас ему — в глазах только ужас, страшно боится крови, особенно собственной, и эта слабость непонятным образом делает его похожим на отца, не терпящего беспорядка и расхлябанности… Однако отец не в силах обуздать сына и виноват в этой позорной — а может, вовсе и не позорной? — трусости. Хотя где и когда провинился Наримантас? Где и когда провинилась я перед тем, с татуировкой на груди? Клянется, что с ума сходит, так дико боится одиночества, что и на смерть ему наплевать…
— Что же будем делать, сестра?
Нерешительность отца немедленно передалась сыну, кажется, отпустишь руку, и забьется он, неуправляемый, в истерике.