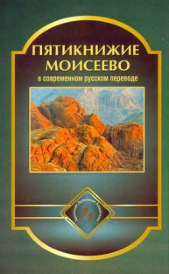Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Зульфия! Зульфия-ханум!
Подождав немного, снова тихонько постучал, саз смолк и до меня долетел голос вдовы:
— Буюрун, Аврам! Заходи! — наверно, это означало «Добро пожаловать, Аврам!»
Стоило Гуляке открыть дверь, как на него выплеснулся оранжевый поток света. Тогда он и вправду показался мне красивым, мой дедушка, — с величественной осанкой библейского патриарха.
Я увидел, как он двинулся вперед кокетливой, танцующей походкой старого ловеласа, с бутылкой анисовки в одной руке и кульком с засахаренным миндалем — в другой. На пороге немного замешкался — я хорошо видел его лицо, озаренное улыбкой, излучавшей вселенское нетерпение любви.
Затем улыбка медленно погасла.
Ибо внутри, как раз напротив двери, на узком диване у стены, покрытом пестрой накидкой, сидели батюшка Исай, ребе Менаше Леви и Ибрагим-ходжа. На низеньком турецком круглом столике из кованой меди перед каждым стояла бутылка анисовой водки. И нетрудно было догадаться, что в трех кулечках рядом с анисовкой не могло быть ничего иного, кроме засахаренного миндаля.
Дед замер от неожиданности, не решаясь переступить порог и закрыть дверь, все еще не осознавая в полной мере крушения своих самых сокровенных надежд.
Первым засмеялся раввин Менаше, за ним захохотали поп и ходжа, а над всеми вспорхнул, как голубь, веселый звонкий смех вдовушки Зульфии.
И только тогда рассмеялся и Гуляка, сначала неохотно, но потом все искреннее, и смех его нарастал, переходя в мощное крещендо, пока не превратился в гомерический хохот, который, наверно, мог бы разбудить квартал Среднее Кладбище вместе с его мертвецами. Зульфия быстро втянула в комнату за лацканы пиджака заливающегося смехом Гуляку и, вскользь оглядев окрестности, захлопнула за ним дверь.
Во дворе снова стало темно.
Тут я мог бы прекратить свою недостойную деятельность соглядатая, побежать и рассказать бабушке Мазаль всю горькую правду о вечернем свидании ее супруга с Далай-ламой.
Мог бы, но не сделал этого. И вовсе не из моральных соображений, а из любопытства, которое пересилило чувства долга. Уж не знаю, какой дьявол нашептал мне эту идею, но я вскарабкался по одной из толстых подпор, поддерживающих виноградную лозу, и пополз по ненадежной сетке — переплетению горизонтальных прутьев с проволокой. Я пробирался среди листьев и гроздьев винограда в темноте, вися в пространстве между землей и звездным небом, причем то рука, то нога проваливалась в пустоты этого пространства. Так продолжалось до тех пор, пока я не прижался лицом к небольшому полуоткрытому окошку.
Внутри святые отцы и мой дед Гуляка, удобно расположившись на диванчике, блаженно прикладывались к белой анисовке, а Зульфия пела теплым грудным голосом, аккомпанируя себе на сазе.
Я увидел, как Ибрагим-ходжа мечтательно погладил бороду, прежде чем сказать:
— Ах, Мариам! Ты и вправду — избранница Аллаха. Он очистил и выбрал тебя из всех мирских женщин. Так сказано в третьей суре!
Он привстал, чтобы погладить бедро той, которую, согласно третьей суре, назвал Мариам, но отец Исай ревниво шлепнул его по руке.
— Не замай!
Очевидно, между четырьмя поклонниками Зульфии существовала какая-то негласная конвенция, поскольку ходжа тут же сконфуженно отдернул руку. Турчанка одарила его лукавой и дерзкой улыбкой и продолжила петь.
Настала очередь доброго раввина, известной и уважаемой личности в квартале не только в качестве иудейского духовного пастыря, но примерного отца и заботливого супруга.
— Ах, Зульфия, Зульфия, в какие грехи ты нас ввергаешь! Но сказано: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Обернись, Суламифь, чтобы я на тебя посмотрел! Округление бедер твоих, как ожерелье, живот твой — как круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино…» Так написано в «Песне Песней» и писал ее сам царь Соломон! Ну же, песнь моя, Зульфия-ханум, золотце ты мое ненаглядное, ах, мое сердце больше не выдерживает!
Вдова кивнула, исполненная понимания и уважения к служителю самого древнего из представленных здесь богов, отложила саз и взяла маленький бубен. Распрямившись, она одним движением плеч сбросила с себя пеструю бухарскую шаль, развела в стороны полные руки, словно они были белыми лебедями, ударила в бубен пальцами, проворными, как серебряные рыбы-усачи в Марице, и заколыхалась в танце — медленно, сладострастно.
Мужчины тихо хлопали в ладоши в такт ее изгибам, а Гуляка не выдержал и глухим голосом простонал:
— Ah querida, dolor dulce de mi corazón! Ah, palomba de la alma mía!
Здесь не требуется перевода, важна интонация, но ее можно передать только нотной партитурой.
И батюшка Исай басовито возопил православным церковным речитативом:
— Ох, помилуй нас, Господи, помилуй и спаси нас грешных…
Это еще больше раззадорило Зульфию. Она стянула и отбросила в сторону вышитую бархатную безрукавку, затем быстро сняла шелковую блузку, обнажив голый круглый, вибрирующий от скрытой страсти живот.
Тут уж и ходжа не выдержал и с пламенеющим взором простонал уже знакомое читателю, страдальческое, но страстное «Машалла!»
А спустя совсем немного времени уже все четверо — бородатые и солидные, имеющие сыновей и внуков, верно служащие вездесущим и всевидящим богам, окружили вдову, хлопая в ладоши и извиваясь в танце, забыв обо всем на свете, одержимые великой сладостью греха.
Но за все рано или поздно приходится платить, и Гуляка знал это лучше всех благодаря своему трактирному бытию. А Небесный Трактирщик, да святится имя Его, следит, чтобы по всем счетам было уплачено. В этот поздний и грешный шабатный вечер все же кто-то должен был искупить вину, и перст Иеговы, неизвестно почему, указал на меня, постороннего наблюдателя, меньше всего причастного к происходящему. Я вдруг ощутил, что происходит что-то неладное, — небо опрокинулось и звезды в одно мгновение оказались подо мной, послышался зловещий звук ломающихся веток. Я попытался ухватиться хоть за что-нибудь, но ловил лишь пустое пространство, прежде чем понял, что вся конструкция, на которой держалась виноградная лоза, напрочь развалилась, и я оказался на земле, заваленный листьями, прутьями и сочными гроздьями.
Первой, наскоро набросив на плечи шаль, прибежала Зульфия с керосиновой лампой в руке, за ней спешили мой дед и трое святых отцов. Вдова наклонилась надо мной, испуганная и ничего не понимающая, а я жалобно простонал:
— Нога!
В подобных обстоятельствах лучше всего, чтобы с тобой приключилось несчастье, — тогда, вместо того, чтобы наказать, о тебе начинают нежно заботиться!
В соседних домах тут и там стали зажигаться желтые квадраты окон, сокровенная тайна четырех любящих сердец грозила стать всеобщим достоянием. К тому же еще вначале было сказано: молва — как ветерок со стороны Марицы, несущий запах лошадиных табунов и рисовых полей, который проникает во все щели. Назавтра эта молва медленно, но упорно будет передаваться из уст в уста, и весь квартал, незаслуженно носящий мрачное название Среднее Кладбище, будет заливаться добродушным хохотом, за которым нет-нет, да и проглянет мужская зависть.
Я лежал дома с исцарапанным лицом. На слегка приподнятой подушке покоилась нога в гипсе. Над кроватью в овальной рамке висела фотография моих отца и матери, склонивших друг к другу головы — как когда-то усадил их великий мастер Костас Пападопулос. Немного в стороне от фотографии, белели две грамоты, пришпиленные к стене кнопками, которыми я очень гордился, — однотипные, со скрещенными красными флажками и красной пятиконечной звездой над ними. Одна была папина, другая — мамина. Мои родители геройски погибли — так было написано — в борьбе с фашизмом.
Левое стекло очков треснуло, и теперь сквозь него мир выглядел раздробленным на мелкие кусочки и пересеченным фронтовыми линиями.