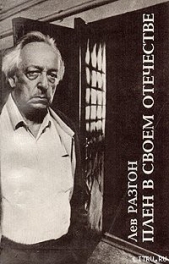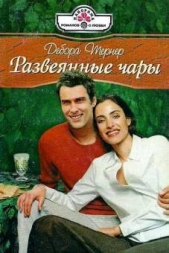Пасадена

Пасадена читать книгу онлайн
Впервые на русском — грандиозная семейная сага («триумф исторической реконструкции и безудержной романтики», по выражению критиков) от автора мирового бестселлера «19-я жена», разошедшегося тиражом почти в миллион экземпляров. В центре эпического повествования — красавица Линда Стемп, изготовительница лучших ловушек для лобстеров на всем калифорнийском побережье, и трое мужчин, в жизни которых она сыграет роковую роль: ее ревнивый брат Эдмунд; капитан Уиллис Пур, герой войны и владелец апельсинового ранчо; а также загадочный мастер на все руки по имени Брудер, которого отец Линды привез домой с войны. Судьбы их, перекрещиваясь, складываются в пронизанную светлой ностальгией живописную панораму, в которой есть место и любви, и предательству, и роковым тайнам. Как писал журнал New York,«герои Эберсхофа не просто встают со страниц как живые, а предстают исполинами поистине мифического масштаба».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кое-что Линде рассказывал сам Уиллис, спускаясь с ней по утрам вниз. Но больше всего выкладывала Роза. Со временем Линда заметила, что рассказы Уиллиса и Розы об одном и том же сильно разнятся, и решила, что Уиллису резоннее рассказывать о себе правду, чем его старшей горничной. Как раз тогда Уиллис рассказал Линде, что спешил во Францию на войну. «Так торопился, что сам собрал рюкзак», — вспоминал он. Роза со всеми подробностями расписывала совершенно другую сцену — Уиллис испугался как маленький и в слезах упал Розе на грудь. Но если Уиллис так трусил, как мог он получить медаль за храбрость?
Уиллис рассказывал Линде, что в сестре он терпеть не может одно: слишком уж она любит прикинуться больной.
— Она хочет таким способом привлечь мое внимание, но я же вижу разницу между простудой и придурью, — говорил он.
А Роза рассказывала совершенно другое:
— Она всю ночь не спит, в подушку кашляет, вот поэтому он и не слышит.
Но если Лолли так нездоровилось, как она умудрялась вести дом, следить, чтобы везде был натерт паркет, сняли окна, брать у горничной из рук коврик и говорить: «Я сама»?
Уиллис говорил Линде, что на берегах Мааса он спас человека; по словам Розы выходило, что, наоборот, кто-то спас жизнь ему.
Причин не верить Уиллису не было, и как-то утром, спускаясь вниз по холму, он заметил:
— Надеюсь, Роза рассказывает вам не очень много сказок. Она неплохая девушка, но не прочь приврать. Так она переводит разговор от себя… или от своей матери.
Линда спросила, о чем это Уиллис.
— Она вам не рассказывала? Ее мать была распутной женщиной.
Линда подумала, что говорить так жестоко, и он произнес, как будто прочитал ее мысли:
— Да, это жестоко, но правда.
Он сказал еще, что не похож на большинство жителей Пасадены и что ему интересно рассказывать только правду, даже если она и не слишком красива. И тут Линда просто опешила, потому что Уиллис сказал:
— В каком-то смысле моя мать была очень похожа на мать Розы.
— Как вы можете говорить такое! — вспылила Линда.
— Но это всего лишь правда.
Что это за мужчина такой, который может называть шлюхой собственную мать? Прошло несколько лет, в памяти Линды история Валенсии осталась настоящей, нисколько не приукрашенной; она прекрасно помнила, как ее мать оказалась в «Гнездовье кондора», как случилась та встреча в сарае, — занималась заря, Дитер постанывал, заканчивая свое дело. Однажды Валенсия призналась Линде: «В сущности, у всех женщин судьба складывается одинаково». Линда тогда горячо возразила: «А у меня все будет по-другому!»
— Я любил мать, — сказал Уиллис. — Пожалуйста, поймите меня правильно. Не проходит и дня, чтобы я о ней не думал.
Лицо его стало очень задумчивым и таким ранимым, каким Линда никогда еще его не видела. Его красивые голубые глаза увлажнились, щеки были мягкие, как шарики теста, и Линда подумала — ткни их сейчас пальцем, он погрузится в кожу, до того она была нежной. Не был бы он капитаном, не украшала бы его грудь медаль за храбрость, не владел бы он своим огромным ранчо — он бы походил на самого обыкновенного молодого человека, который всякий раз поднимает глаза, чтобы встретиться с ней взглядом. Такое случалось не один раз, и с годами она даже стала любить это ощущение и, честно говоря, даже хотела испытывать его: глаза незнакомца расширяются при виде ее, вбирают ее в себя и говорят без всяких слов — в этот миг их обладатель готов для нее на все.
— Матери не понравилось бы, если бы я о ней врал, она была честной женщиной, не из тех, кого заботит, что скажут люди. По-моему, я больше похож на нее, чем Лолли. Мама была родом из штата Мэн и переехала на Запад, когда ей исполнилось пятнадцать лет.
— Зачем?
— Вы спросили — зачем? — переспросил он и повторил: — Ей было пятнадцать лет. Она жила в Мэне, где лежит снег. Конечно, ей хотелось чего-то другого, хотелось стать другой.
Он рассказал, что у его матери было сопрано и что она приехала в Пасадену, чтобы петь в театре «Гранд Опера», выстроенном в мавританском стиле, здание которого стояло тогда на углу Раймонд-стрит и Бельвью-стрит. Она давала концерты из произведений Беллини и Доницетти — пела арию Амины из «Сомнамбулы» и речитатив Анны Болейн, заключенной в темнице, — и как-то раз среди публики увидела необыкновенного красавца, рыжего, как апельсин. Потом она говорила, что даже через огни рампы различала его голову, светившуюся, точно факел, во втором ряду; лицо в окружении волос было сильным, крупным, по-мужски привлекательным. Само собой, в тот вечер Аннабелл и сама выглядела великолепно. Волосы у нее были медово-желтые, маленький рот походил на сужающееся книзу яблоко, синие глаза были так огромны, что без труда вместили бы в себя все полторы тысячи лиц, которые смотрели на нее и слушали, как легко она берет свои верхние «до», перепархивает с ноты на ноту, осторожно опускается вниз. Ее звали «девушка с Голубых холмов» — она сама придумала себе этот псевдоним, навсегда распрощавшись с деревенькой из побеленных домиков, где в могилах, вырытых в каменистой земле, упокоились ее родители.
— Мой отец не был особым любителем музыки, — рассказывал дальше Уиллис. — Он всегда говорил, что музыкой можно заниматься, только если больше нечего делать.
Отец, по его словам, был сильным, небольшим, но крепко сбитым мужчиной, который смеялся над роскошью даже тогда, когда сам окружил себя мрамором и позолотой. За годы, проведенные на ранчо, в седле, кожа его стала прямо-таки дубовой. Сбор апельсинов натренировал его предплечья, и они стали похожи на две гигантские барабанные палочки. Он говорил, поджимая губы, цыкал для подчеркивания смысла слов и в тот вечер вовсе не собирался ни в какую оперу, недоумевая: «Что это еще за девушка с Голубых холмов?» Но до Уиллиса Фиша Пура дошел слух, что певица молода и прекрасна и что каждый вечер восторженная аудитория топала ногами и кричала: «Браво! Бис!» В заключение целого вечера Доницетти и Беллини Аннабелл обычно бисировала более знакомые публике вещи: «Огненно-рыжая девушка» и «Милая бухта Каско». Между ариями бельканто и народными песнями Мэна она переодевалась в платье цвета листвы, расшитое богемским хрусталем, с верхом из вельвета цвета черники, открывавшим шею как у балерины и красивые плечи. На плечах лежала коричневая, похожая на норковую, накидка. Голос у Аннабелл Кон был не слишком сильным и на верхних «до» иногда колебался и подрагивал, как грузовик, ползущий в гору. Дикция тоже была далека от совершенства — честно сказать, слов почти никто разобрать не мог, и не только потому, что пела она по-итальянски. Звучали Доницетти и Беллини, в театре сидели жители Пасадены, где женщины, да и мужчины тоже, заглядывали в либретто перед тем, как отправиться в оперу. Да, ее вокальный дар был не слишком силен и мог бы прокормить ее, пока она была молода и красива, но — и это Аннабелл Кон понимала лучше, чем все остальные, — как только красота ее начнет увядать, карьере придет конец.
«Ну и чего все с ума сходят?» — недоумевал про себя Уиллис, нетерпеливо поглядывая на зрителей. Но когда в интерлюдиях Аннабелл приподнимала юбку, показывая ножку в розово-коричневом чулке, когда стремительно и гордо летела по сцене в танце, ножки ее сверкали в свете рампы, точно леденцы. Заканчивая каждый номер, она что-нибудь бросала публике — белоснежную розу, бумажный веер, горсть конфет-горошек, — и люди вскакивали со своих мест, ловя ее дары. В тот вечер, решивший судьбу обоих, на колени Уиллису опустился букетик тигровых лилий, который она отколола от корсажа платья, и тычинки цвета ржавчины запачкали ему брюки. Его соседу достался темный влажный платочек с запахом увядших роз. Мужчине, сидевшему через три ряда после них, достался пустой флакон из-под духов «О де Муа», сделанный в виде русалки, с хорошенькой позолоченной крышкой.
Но только во время исполнения на бис — когда девушка с Голубых холмов весело затянула «Волосы рыжие-рыжие, только их в мире и вижу я!» — Уиллис Пур ясно понял, что он просто обязан познакомиться с этим сопрано. После концерта он передал свою карточку управляющему театром — лысому, радостному джентльмену, который, уходя домой, для надежности прятал всю выручку в ботинок. К крайнему удивлению Уиллиса, управляющий ответил, что мисс Кон ждет его за кулисами. Уиллис Фиш застал ее у зеркала — она собирала волосы в пышный шиньон. Много позднее он вспоминал, что та встреча походила на воссоединение брата и сестры: «Как будто мы знали друг друга всю жизнь, как будто нас разлучили при рождении или с нами случилось что-то подобное». Их глаза трижды встретились в трехстворчатом зеркале и с тех пор смотрели только друг на друга. Но в тот вечер они почти не говорили — они целовались в пыльных кулисах. Уиллис Фиш приколол тигровую лилию обратно на платье Аннабелл и поглаживал ее по щеке — потом он всегда говорил, что она была холодная, как северный снег.