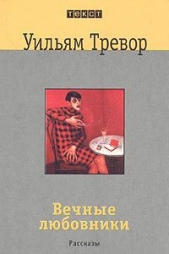Пасынки судьбы
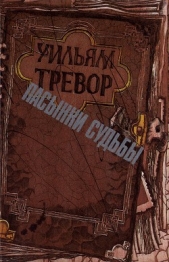
Пасынки судьбы читать книгу онлайн
В издание вошел один из лучших романов известного англо-ирландского писателя Уильяма Тревора; в нем история одной семьи связана с трагическими судьбами всего ирландского народа. В рассказах Тревора, мастера новеллистического жанра, отражаются нравственные, национальные и социальные коллизии современных Англии и Ирландии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— То есть как?
Судя по голосу, он считает, что забыть нельзя. Не могут они забыть все, что понарассказала Шэрон о доме в Давентри, о бабушке, от которой нет житья, о толстухе Диане, своей сестре, о брате Лесли. Мир той семьи вошел в их мир. Они и сейчас видят ту кухню, бабушку в инвалидном кресле, ее горькую гримасу, связанную как-то с давно покойным мотом мужем. Они видят, что перекипает кастрюля, миссис Тэмм не следит толком за плитой, видят мотоциклетный шлем на кухонном столе, толстуху Диану. Мистер Тэмм вечно орет на Лесли, чтобы убирал одежку, когда наездится, и на Диану, чтоб не жирела, и на жену, и на Шэрон, жутко орет. Специально для жены он выдумал фразу: «Нет, такой дуры!..», и повторяет ее по многу раз, каждый вечер. Медленно, раздумчиво, со вкусом, словно устал, дальше некуда. Тут он не орет, а вот когда называет жену уродиной или шлюхой, орет во всю и швыряется чем попало — крышкой от кастрюли, жестянкой от горошка, половником. Не кричит он только на мать, ее он почитает, может, и любит — Шэрон так кажется. По вечерам он возит ее гулять и возвращается к ночи домой, в их дом, Шэрон его точно описала: перегородки, через которые слышны все свары; следы от погашенных сигарет на краю ванны; картинка с негритянкой на лестничной площадке, потертый половичок, испачканный мотоциклетной смазкой. Все это снова и снова входило сюда, в Генриеттину гостиную, летом — полную цветов: стекло саду не помеха, зимой — освещенную веселым пламенем: в камине трещат поленья. Входило сюда, ибо Шэрон Тэмм облегчала душу словами.
— Она сказала мне, я тебе. Может, не будем об этом, а?
Еще не кончив фразу, она встает, спешит в кухню, ставит пудинг на самый низ духовки. Поливает жиром индейку, картошку, зелень. Моет капусту брокколи, кладет на сушку, чтобы была под рукой. Против ожидания Рой не сказал, что в Шэрон есть что-то жалкое. Ха-Ки, привлеченный запахами, обнюхивает кухню, потом трусит за Генриеттой обратно, в сад.
— Она и тебе говорила, да? Ты это знал?
Не надо бы, само вырвалось. Еще моя капусту, она решила нарочито, круто переменить тему, упомянув Макмелани. Но вдруг заволновалась, как тогда, когда Шэрон сказала, что Рой никого не может обидеть, да и шерри ударил в голову, трудно владеть собой.
— Говорила, — признает он. — Вообще, все не совсем так.
Опять он вспотел, на лбу и на подбородке — капельки. Вынимает крапчатый платок, вытирает лицо. Медленно, через силу говорит, а чутье подсказывает ей, что, как ни дико, это правда — тут не глупости Шэрон, они чем-то связаны. Генриетте тошно, ее мутит. Ей кажется, что надо проснуться, вырваться из страшного сна, очень уж тошно, сил нет. Так и видит ее лицо, прыщ на подбородке, красные глаза. Это противно, в конце концов, грязные ноги, сломанные ногти.
— Давай это оставим, — слышит она со стороны, и повторяет, повторяет — Макмелани… — и не может кончить. Он что-то говорит, запинается, смущается, она никак не расслышит толком.
У них все было в порядке, они не изменяли друг другу, любили друг друга, ладили. Рой подавлен, потому что не преуспел в своей науке, с браком это никак не связано. Честолюбия у него нету, карьеры делать он не собирается. Она это знает, но никогда ни о чем не говорит.
— Ты уж прости, — произносит он, и ей хочется засмеяться. Ей хотелось бы удивленно воззриться на него, такой он толстый, потный, и рассмеяться ему в лицо, чтобы он понял, как смешон. Неужели он ей рассказывает, что любит какую-то замарашку лет на тридцать моложе его? Да быть не может!
— Мне очень, очень жаль, — бормочет он, глядя вниз, на плиты. Ее собачка послушно лежит у его ног. Высоко над садом пролетает самолет.
Что ж, он хочет жениться? Она увезет его туда, в Давентри, в ту семью, на кухню, где сидит эта жуткая бабушка? Он поздоровается с глупой миссис Тэмм, с Лесли и Дианой? Пойдет на прогулку вместе с мистером Тэммом?
— Просто не верится, Рой.
— Не сердись.
— Ты ее очень любишь?
Он молчит.
— Рой, ты ненавидел меня все время?
— Ну что ты!
Он спал с ней, с этой девицей. Он неуклюже признается, да, на полу, у них в отделе. Снимал эти старомодные очки, клал на бежевый пластик у ножки стола. Запускал пальцы в тусклые волосы.
— Как ты мог?
— Да как-то так, само собой вышло. Это бывает.
Красный, пристыженный, он хочет пожать плечами и не может, слишком расплылся. Какой он противный, думает она. Как Шэрон. Медуза на песке.
— Это смешно! — она кричит, больше не хватает сил сдерживаться. — Ты с ума сошел.
Они и прежде ссорились, как все, по пустякам. Не слишком обижали друг друга, каялись, ссылались на нервы.
— Что ж тут смешного, — спрашивает он, — если кто-то меня любит? Нет, ты скажи, что?
— Она девчонка, тебе за пятьдесят. Разве это нормально? Что у вас общего?
— Мы полюбили друг друга, Генриетта. Любовь никак не связана с нормой. Гессельман говорит…
— Рой, ради Бога, сейчас не до Гессельмана!
— Он говорит, что любовь выводит за пределы обыденного…
— Значит, станешь хиппи-перестарком? Облачишься в хламиду, будешь плясать и медитировать в полях, с оранжевыми? Ты сам говорил, они не в себе. Говорил, Рой.
— Ты сама знаешь, что Шэрон с ними рассталась.
— Привяжешься к бабушке. А уж к отцу…
— Это нечестно, Генриетта. Шэрон надо защитить от семьи.
Она ведь не хочет возвращаться. Как ты можешь?
— Я еще в себя не пришла.
— Иногда надо собой владеть.
— Господи, Рой, если у тебя климакс, сбеги с ней куда-нибудь! Съезди с ней в Маргейт или в Бенидорм, в гостиницу!
Она подливает себе шерри, руки дрожат, лицо темнеет, мрачно пылает, под стать яростному голосу. Ей представляется, как живут эти двое. Вот они на курорте, все на них глазеют, он узнает ее привычки. Узнает, что у нее в сумочке, как она одевается, раздевается, просыпается. Девятнадцать лет назад, в Да-Грэв, где они проводили медовый месяц, Рой говорил, что именно так люди становятся все ближе. Ее, Генриеттины, привычки и вещи — помада, крем-пудра, темные очки, сумочка с девичьими инициалами, манера застегивать блузку и платье — с каждым днем становились для него привычнее, как для нее самой. Детство ее возникало для него из ее рассказов.
— Помнишь Ла-Грэв? — спрашивает она, опять спокойно. — Как мы гуляли по снегу, как тебя женщина звала профессором?
Он нетерпеливо отворачивается. При чем тут Ла-Грэв? Это было так давно. Опять завел про Гессельмана… Она не понимает, говорит:
— А я вот Ла-Грэв не забуду.
— Я старался, боролся. Избегал ее. Ничего не выходит.
— Она сказала, ты бы мне не признался. Что ты думал делать?
— Сам не знаю.
— Она говорила: это нечестно, да?
— Да, — Он молчит, потом прибавляет: — Ты ей очень нравишься.
Наверно, индейка совсем усохла, а пудинг, который он по-детски любит, вообще сгорел. Она произносит, стыдясь своих слов:
— Да и она мне тоже всегда нравилась, что б я сейчас ни говорила.
— Надо мне с ней повидаться. Сказать, что все прояснилось.
Он встает и допивает, что осталось. Смотрит на Генриетту, все смотрит, из-под очков текут слезы. Больше ничего не говорит, только «прости» да «прости», сопит, сморкается. Потом поворачивается, уходит, и через несколько секунд хлопает дверь, как хлопнула, когда ушла Шэрон.
Генриетта — в зеленной лавке, у которой, как водится в Италии, названия нет, просто «Fiore e Frutta» [93] над входом. Тихая хозяйка, хорошо ей знакомая, подсчитывает на бумажке, сколько стоят fagiolini [94], груши и шпинат.
— Mille quatro cento [95].
Генриетта, отсчитывает деньги, берет покупки.
— Buon giorno, grazie [96],— бормочет хозяйка.
Генриетта прощается с ней, выходит.