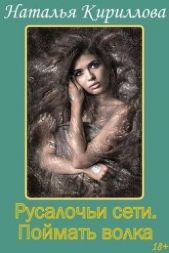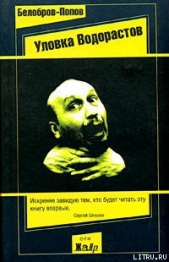Час волка на берегу Лаврентий Палыча (СИ)

Час волка на берегу Лаврентий Палыча (СИ) читать книгу онлайн
Бывают книги, всячески подчеркивающие свою принадлежность к так называемой "высокой литературе", книги с изысканными сравнениями, витиеватым синтаксисом, роскошной фразой, упивающейся собственной красотой, но в сущности, пытающейся скрыть отсутствие того, ради чего читатель и открывает книгу, – отсутствие подлинной жизни. Их встречают по одежке стиля, но провожают уже по содержанию, вернее, содержательности, откладывая книгу до лучших времен.
Но бывают и другие, внешне совсем непритязательные, как бы стесняющиеся своего появления, да и не книги вовсе, а вроде, так, написалось что-то непонятное. И не литература это вовсе, и не претендуем на нее.
А читать интересно. И жизни там хоть отбавляй, несмотря на то, что эта жизнь может показаться не слишком заслуживающей внимания.
Автор этой книги – не профессиональный литератор, хотя и филолог по образованию, переводчик и редактор. Это чувствуется по тому точнейшему словоупотреблению, которое встретит нас в этой книге.
Слова "низкие", жаргонные и даже нецензурные, соседствуют со словами
"высокими", с цитатами из Библии и классики – и автор точно знает, где чему место., и никогда не путает.
Здесь нет сквозного сюжета. Сидит человек пенсионного возраста в благополучной Канаде, на берегу реки Святого Лаврентия (а это имя для людей его поколения означает лишь одного человека, будто не было больше никого, носящего имя Лаврентий), попивает водочку и выстукивает на клавиатуре письма своему другу детства и юности, благо изобретение электронной почты дало возможность обмениваться сообщениями с ранее невиданной скоростью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот, если бы в Сомали с итальянским, то я бы поехал. Он мне лучше даётся.
– Ну, не хотите, как хотите, – ответила адмиральша Шведе и поплыла дальше. Но рядом со мной стоял почти еще трезвый Сережа
Сапгир. А надо сказать, что у него, пьяного ли, трезвого, голова от моей отличается как, скажем, Интел Пентиум четыре от 486 процессора.
Серега посмотрел на меня совершенно круглыми от удивления глазами и спрашивает:
– Лесник, ты что охренел?
– Понимаешь, Серый, – говорю, – я же французского совсем не знаю.
Пятерка-то у меня липовая. Меня же оттуда на второй день выпрут.
Так он аж за голову схватился и завыл:
– Ну-у-у, м-у-удак! Ну-у-у, м-у-удак! Да знаешь ли ты, сколько туда билет стоит? Да тебя там из-под палки выучить заставят! Это же франкоязычная страна! Там и корова через месяц заговорит! Беги за ней! Сейчас беги! Вон она идет! Говори, что согласен.
Я побежал, догнал и залепетал, что, мол, подумал и согласен.
– То вы не согласны, то согласны, – недовольно пропела Ольга
Константиновна, и говорит, – Идите в деканат и ждите меня. Будем вас оформлять.
Вот так просто, Шурик, всё и произошло. А Серега оказался абсолютно прав, меня действительно обратно не завернули. Первый мой алжирский шеф, Иван Гаврилович Гемусов, оказался добрейшей души человеком и с большим чувством юмора. На следующий день после приезда, повез он меня в Минздрав на переговоры. О чем я думал по дороге в машине, знали только петрашевцы, ибо о том же думали, когда их на Семеновский плац везли. Приезжаем, приходим в кабинет к министру, и Гемусов говорит:
– Олег, сообщите, пожалуйста, господину министру, что практикующие в Алжире советские фтизиатры собираются устроить научно-практическую конференцию по проблемам профилактики туберкулеза, и нам бы очень хотелось, чтобы господин министр почтил бы эту конференцию своим присутствием
Я разинул рот, помычал и произнес: ну вулён… конференс…сиентифик…
И замолк. После минутного молчания Иван Гаврилович наклонился к министру, легко и грациозно сказал: Месье лё министр, мон энтерпрет а вулю дир … (господин министр, мой переводчик хотел сказать)… и повторил свои же собственные фразы на безукоризненном французском языке. Оказывается, он уже шестой год сидел в Алжире и язык вполне освоил. На обратном пути из министерства он же меня и успокаивал, рассказывая о том, как тяжело ему было в первый год.
Вот, – говорит, как-то подвозил меня министр домой на своем
Ситроене DS 21 электроник. Довез до дома, я вышел, ну и хлопнул дверью, чтобы хорошо закрылась. Я, ведь, раньше-то только на Волге ездил, тоже, кстати, двадцать первой. Так, значит, хлопнул, что аж вся машина затряслась. Министр с лица сбледнул и мне кричит:
Камарад Гемусов, аттансьён а ла порт, мол, осторожно – дверь! А я только и понял слово ля порт. Ах, – говорю, ля порт не закрыл, сейчас! Да как садану второй раз, она и вылетела из петель. Так что, учи язык, пол года я тебе дать могу, займу другой работой, у меня всякой полно. Но если и тогда не заговоришь, пеняй на себя.
Через пол года же я болтал не слабей, чем те, у кого французский был первым языком. А там и Вика объявилась на горизонте. Причём, её родители, как раз к моменту отъезда дочери в Алжир, поменяли их бакинскую квартиру на московскую, так, что я, сам того не ожидая, ещё и москвичом оказался. В общем, вся судьба сложилась помимо меня, а я и пальцем не пошевелил. Точно так же и у Старикашки вся жизнь шла сама по себе, тоже без малейшего шевеления пальцем. Ну, а при такой огромной общности судеб, сам понимаешь, начхал я давно на его оголтелую ампиловщину. Мне ли осуждать брата своего?…
… А теперь я хочу ответить тебе на твой второй вопрос, что я имел в виду под термином "феномен авиации", и почему он вызывает во мне такое чуть ли ни метафизическое ощущение. Ты совершенно справедливо пишешь, что любой полет на самолёте есть только перемещение твоего тела из пункта А в пункт Б. И, мол, нечего тут больше искать. По твоим словам, в пункте прилета "Б" вокруг тебя меняются лишь жизненные условия, а не сама жизнь. Уверяю, что понимаю тебя, когда ты пишешь, что вся жизнь, она – внутри тебя, в твоей черепной коробке. А окружающие её, как ты пишешь, "декорации" большого значения для мыслящего человека играть не могут. Вот тут-то
– вся разница между нами. Я, Александр Лазаревич, человек не мыслящий. Я – чувствующий. Так как чувствую мир я, ощущают его только поэты. Но, в отличие от меня, они свои чувства могут выразить точными и в самое сердце проникающими строчками. Я же только чувствую, а выразить ничего не могу, как собака. А ежели захочу убедить кого-либо в чем-нибудь, например, в своей любви к Городу, то буду на десятке страниц размазывать слезы по небритому щетинистому мордасу, а так ничего и не докажу. Поэту же достаточно всего два десятка слов: Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на
Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я во тьме не найду, между выцветших линий на асфальт упаду… Хоть умирай потом в Нью-Йорке и хоронись в Венеции, всё равно лучше не скажешь!
Впрочем, был у меня небольшой поэтический опыт, ибо одно стихотворение в жизни я все же написал. Увы, оно оказалось не совсем удачным. Случилось это еще весной 45-го в Горьком за месяц до нашего отъезда в Питер. Тогда только что вернулся с фронта дядя Толя, мамин брат. Пришел он домой в военной форме и с большим черным пистолетом, из которого я долго и нудно упрашивал его пострелять. Но дядя отказывался. Тогда я свою просьбу облек в стихотворную форму:
На стене висит носок, а в ботинке гвоздик.
Выйди дядя на балкон, из нагана бахни!
Однако дядю моя поэтическая просьба не растрогала, и он так и не бабахнул. А я сообразил, что поэтом мне не быть. Насколько понимаю, это один из видов Божьего наказания:дать человеку способность чувствовать и страдать (особенно с бодуна), как поэт и напрочь лишить его малейшей способности выразить свои чувства в нескольких метких, емких, пронзительных словах.
Чтобы было всё-таки понятнее, что я имею в виду под феноменом авиации, перешлю тебе еще одно своё давнее письмецо. Ты уже столько деталей знаешь о моем приезде в Анголу и жизни там, что хотелось бы рассказать, как я оттуда вернулся. Тем более, что ты как раз спрашиваешь меня в последнем письме, сколько же времени я жил в этой стране. Непонятно тебе, как такое могло случиться, что уехал я на два года, а пробыл там всего 16 месяцев.
Выперли меня, Шурик, из загранкомандировки в самом начале февраля восьмидесятого года за (цитирую полученную характеристику) неоднократное вождение в нетрезвом виде вверенных ему транспортных средств", что, впрочем, полностью соответствовало действительности.
Помнится, как-то месяца за два до отъезда, возвращался я поздно вечером домой из Луанды в гостиницу Кошта-ду-Сол, что находилась в десятке километров от города и стояла на очень высоком берегу. А посему перед самым отелем дорога резко брала в гору. И для безопасности была внизу сделана огромная клумба, которую шоссе и огибало, чтобы водители здесь перед подъемом или на спуске скорость гасили. Рядом справа плескался океан, отчего дорожное покрытие всегда было присыпано песком с пляжа. Так я пьяненький на тяжелой санитарной Волге не вписался в клумбу, да резко затормозил. И заплясала моя Волга по пропесоченному асфальту. Раза четыре провернулась вокруг собственной оси, снова встав носом прямо на
Кошту. Только мотор заглох. Представляю себе, что бы случилось, если бы я в тот момент ехал на высоком санитарном Рафике, который тоже числился среди моих "транспортных средств". Или на лёгоньком бразильском Фольксвагене. А если бы в этот час оказались еще на дороге машины?! Бог спас, не было никого, а низкую и тяжелую Волгу не так то просто перевернуть.. Я завел мотор и доехал до Кошты резко протрезвевшим. О чем, помнится, сожалел, ибо именно в тот момент выпить там у меня не имелось, и жалко было кайфишко терять. Растряс, в общем, я его.