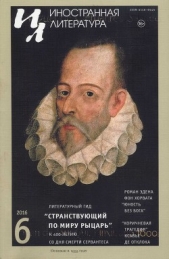Это настигнет каждого

Это настигнет каждого читать книгу онлайн
На сына копенгагенского судовладельца нападает банда подростков, которые хотят линчевать свою жертву. Но на помощь приходит сын проститутки, он вызволяет Матье, и тот в знак дружбы дарит ему свой палец… За историей любви принца и нищего следят их двойники — ангелы, спустившиеся на землю.Ханс Хенни Янн (1894—1959) попытался продумать заново основы человеческого бытия: отношение к смерти и миру природы, к творчеству и любви, к социальному неравенству и техническому прогрессу. Экспериментальный роман «Это настигнет каждого» не был завершен, но сохранившиеся главы дают представление о красоте его замысла.«Ханс Хенни Янн всегда оставался в стороне. Он принадлежит к тайному королевству неофициальной немецкой литературы, королевству неведомых некоронованных принцев». Клаус Манн.«Янн был убежден, что христианство нарушило связь людей с природой. Каждое существо участвует в круговороте и, если после смерти его не пожирают, оно разлагается, что является иной формой употребления в пищу. Пение птиц и стрекот сверчков — свидетельства страсти к размножению, а, стало быть, возвещают о смерти. Этому вечному распаду и восстановлению органической материи противостоит мир мертвых, выбывших из круговорота. Янн считал, что умершие всегда находятся среди нас, и ни один дом не построен без помощи мертвецов». Герта Йордан«Янн сделал с немецким языком то же самое, что Джеймс Джойс с английским — разрушил его и заново собрал». Детлеф Гланерт.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вообще, по большому счету, говорить о красоте, когда в игру вступает Эрот [85], - это чистая условность или даже увертка. Я когда-то читал о некоем Агафоне [86], сыне Тисамена, который жил больше двух тысяч лет назад в Афинах. Аристофан его знал и называл изящным мальчишкой [87]; Платон тоже был о нем наслышан. Аристотель высоко ценил его как трагического поэта. Из-за него-то и разыгралась известная сцена ревности между Сократом и Алкивиадом [88]. Большинству из тех, кто видел Агафона, казалось, будто это бог, сошедший с горы или спустившийся с туч; но, с другой стороны, он был человеком - человеком настолько (то есть в такой мере состоящим из человеческой плоти), что люди испытывали к нему вожделение. Они вступали в соперничество, желая его любить... любить грубее и похотливее, чем любую другую плоть. Насмешник Еврипид, издевавшийся над великим Софоклом за то, что тот мальчиком заводил романы с мужчинами, а став мужчиной - с мальчиками, сам тоже не устоял перед колдовскими чарами юного Агафона. Еврипид, со своей стороны, сочинил и поставил в театре «Хрисиппа» [89]. Хрисипп, неотразимо красивый, как Агафон... и изнывающий от эупигических желаний царь Лай, за чьим образом скрывается не кто иной, как автор трагедии... Оба, Агафон и Еврипид, сидят в театре, в то время как актер со сцены декламирует любовное признание царя, после чего осуществляется похищение мальчика и воспеваются преимущества общей постели...
Я предполагаю, что Агафон был ангелом. Именно потому мне так кажется, что его запросто называли мальчишкой. Разве обидно такое слово для существа, которое всё принимает равнодушно, потому что оно другое, чем мы... и остается недосягаемым, даже когда к нему прикасаются наши руки? Если афиняне называли Агафона божественным, то это лишь иное обозначение для того же качества: слово, которое мы неправильно понимаем, потому что привыкли представлять себе бога единственным. Если же Агафон был ангелом - а почему я должен в том сомневаться, коли из-за него Еврипид полностью изменил свое мировосприятие и стал позволять себе дикие, чуть ли не подлые выходки, - так вот, если Агафон был ангелом, то он наверняка не скупился на радости, которые мог доставить своим почитателям. Почему же им было этим не воспользоваться - красивому Алкивиаду, уродливому Сократу, дерзкому на язык Мнесилоху [90], поэту Еврипиду, а может, и более опытному в искусстве совращения Софоклу? Убыло бы что-нибудь от Агафона, если бы он себя выставлял напоказ, отдавал? Изменило бы это его? Он был неизменным. Он бы только этому радовался. Ведь и ангелы - поскольку никто никогда не отрицал, что они мужского полу - должны искать мужских радостей. Но они не производят потомства: даже и помыслить нельзя, чтобы ангелы стали многочисленными, как песчинки на морском берегу. Мы знаем, что Аваддон любил. Над ними нет закона. Они не совершают ни добрых, ни дурных поступков. Они - красивы; и, вероятно, весьма безучастны к тем, чьими спутниками становятся. Они почти и не смотрят на своего избранника. А просто всегда пребывают рядом с ним. Они его используют и могут этим злоупотребить. Они ему помогают. Искушают его. Уподобляются его тени. Они готовы ради него повеситься... или совершить убийство. А уж если они кого полюбили, то любят в таком человеке себя. Он остается сосудом, который был избран случайно. Горести и радости всех прочих людей вообще не волнуют ангелов. Другие могут брать от них, что хотят. Ангел сам несет ответственность за горе и радость, выпадающие на его долю... Гари даже в моменты высочайшего наслаждения не думает о тех людях, что помогли ему это наслаждение получить. Он как бы медленно впадает в беспамятство: позволяет себе погрузиться в глубь этого состояния... погрузиться блаженно. Гари мне это так объяснял. Любовь, испытываемая им любовь к кому-то... предшествует самому глубинному его ощущению. Внезапно он оказывается в одиночестве, наедине с собой. Потом постепенно выныривает из такой уединенности на поверхность и с изумлением вспоминает, что эта его любовь существует, что он не смотрел, подобно Нарциссу, в зеркало, в котором видел лишь себя одного. Да, ему всегда было безразлично, онанировал ли я за компанию с Валентином, или с Олафом, или с Ойгеном, или с самим собой. Он постоянно путал эти имена и не давал себе труда запомнить, что доверительные отношения у меня сложились только с Валентином. Он бы ничего не имел против, вздумай я поддерживать такие отношения со всем классом и еще с дюжиной приятелей впридачу. Единственное, что его беспокоило, - это как бы кто-нибудь не засунул мне кое-что сзади. У него губы белели и лицо делалось зеленым при одной мысли о том, что такое может случиться,-в этом пункте я возвел на него напраслину. Мне трудно понять, почему он, одержимый ревностью, снова и снова требовал заверений, что такого не было, что у меня никогда даже такой мысли не возникало. «И никаких попыток?..» - допытывался он. Я при подобных допросах терял терпение, орал ему в ухо, что мы - Валентин и я - ни разу друг перед другом не разделись. Тогда он наконец умолкал. Но через год, самое позднее, снова задавал тот же вопрос. А ведь сам он не уклонился от приключения с подмастерьем каменщика. Больше того, изобразил мне все дело так, как будто сам отчасти хотел того, что произошло. С моими переживаниями он ни в малейшей степени не считался. Он рассказывал: так-то и так-то это было. И - потому-то. Он наверняка полагал, что я могу запросто слушать такие признания. Моего ужаса, моих слез он не видел. Я тогда ничего не понимал. Не догадывался, кто он. И меньше всего я знал о его любви ко мне. Его не волновало, что я страдаю. Ему вполне хватало того, что я люблю его, а он любит меня... Хотя его любви я тогда еще не мог почувствовать... или, во всяком случае, чувствовал ее недостаточно.
Сегодня я знаю, к чему он в действительности стремился: к обретению себя, с моей помощью. Он любил меня, чтобы иметь возможность любить себя и наслаждаться собой. Все прочие «дырки», которые он затыкал своим большим членом, он не воспринимал как человеческие... как принадлежность человеческого тела. Единственным подлинным телом, телом ближнего - то есть зеркальным отражением самого Гари, как он воображал, - был в его представлении я; и остаюсь я. Он и туда хотел протолкнуть свой рог, в собственные внутренности, - когда-то он уже пережил такое, наблюдая за чужаком. Ему было без разницы, понимаю ли это я. Речь в данном случае шла лишь о нем. И он упорствовал в своем желании, словно приапический бог: сам окаменевший и холодный, как снег, но требующий, чтобы человек впустил его.
Итак, я предполагаю... или предпочитаю думать, что Агафон и Гари по сути не отличаются друг от друга. Что оба они - с одинаковой неземной безучастностью -и сами даруют радость, и принимают ее, не отличаясь в этом смысле от соблазнительного мальчика по вызову; но вместе с тем они преданы какому-то одному человеку... поскольку узнают в нем себя. Такая преданность сохраняется у них все то время, пока они остаются верны себе.
Мне сейчас вспомнились два места из Евангелия от Иоанна, полный смысл которых до верующих наверняка не доходит. Может, приверженцы Реформации не очень точно перевели эти отрывки с греческого. Но и латинский текст Вульгаты, выполненный Святым Иеронимом, почти не отличается от датского перевода. Я имею в виду стихи из главы 13, 23-25: «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса.
..............................................................................
И главу 21, 20-23.
Я не собираюсь заниматься толкованием этих мест, но темными я бы их не назвал. Разумеется, слова умалчивают о главном. Все сообщения по большей части состоят из лакун. Как бы то ни было, этот Иоанн - человек иного склада, чем прочие ученики. Может, он очень молод, очень красив... похож в этом смысле на Агафона. Почему бы и нет? Ведь Иисус определенно любит его иначе, чем прочих. Иоанн возлежит у груди учителя. А после казни Иисуса разыгрывается та мощно описанная сцена у Тивериадского моря, которой завершается Евангелие от Иоанна.