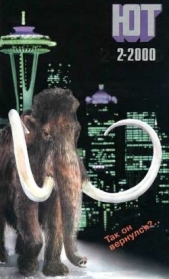Новый Мир ( № 6 2000)

Новый Мир ( № 6 2000) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пространство романа Юрия Малецкого «Проза поэта» [44] полностью интериоризовано. Его лабиринт выстраивается во внутреннем пространстве героя-рассказчика (одновременно — автора?), ветвящегося вариантами своих обликов и биографий. Вопреки известной формуле «ад — это другие», прочитав этот текст, можно сказать, что ад — это когда весь мир — только ты сам. Все герои являются двойниками друг друга, все героини, в той степени, в какой они вообще представляют собой нечто большее, чем обстоятельства жизни героев, — лишь их «анимы». Впрочем, такая героиня всего одна. В отличие от женщин, являющихся «обстоятельствами», эта героиня лишена каких-либо внешних черт (если они и были, и даже указаны, они все равно максимально безличны и бесцветны и их требуется немедленно забыть), появляясь лишь как «улыбка Чеширского кота» перед внутренним взором героя. Судя по тому, что герой оказывается отвергнут своей «анимой», внутреннюю расколотость ему преодолеть не удастся. Впрочем, роман назван романом-завязкой. Не удалось интериоризовать непослушную аниму одному «мне» — авось удастся другому «мне». Автор пытается удержаться в пространстве, из которого он может выходить в существование любого из героев-двойников.
В сущности, в этом и состоит суть лабиринта, суть нелинейности. Она — нелинейность — предполагает не то свое формальное определение, следуя которому Михаилу Бутову в его статье [45] не удалось обнаружить в современной литературе ни одного по-настоящему нелинейного текста; нелинейность — это не отсутствие последовательности событий (той или иной: даже и временнбой), это отсутствие их неотменимости. В нелинейном тексте, пространстве, существовании ничего не происходит, потому что ничего не происходит окончательно, без вариантов, без возможности вернуться в ту же точку лабиринта и пройти другой путь. Без возможности переиграть раз сыгранную игру. Вот в линейном времени даже играют очень всерьез — стоит вспомнить «Пиковую даму». Как вневременность (или — всевременность) постмодерна — пародия на вечность, так нелинейность — пародия на покаяние как на возможность очищения и отмены греха. Но если вечность трансцендентна времени и покаяние возводит человека к вечности, к его неповрежденному в ней образу, то имманентная «вечность» тысячекратно (если понадобится) проводит человека через один и тот же порог, через одно и то же событие — до тех пор, пока он не совершит этот переход удовлетворительно. Сейчас любят слово «инициация» — оно адекватно выражает это состояние: не жизни, но посвящения в жизнь. Все как по правде. И все, в принципе, подлежит переигрыванию. Концепция жизни как игры, в сущности, идентична концепции жизни как непрерывной инициации. Боюсь, что скорее в нынешней литературе нет ни одного линейного текста.
…Пожалуй, слово «инициация» действительно нечто проясняет в природе «срединного пространства» лабиринта времен. «Обряды перехода» по самой своей природе предназначены к созданию такового пространства — в которое можно было бы выйти из жизни по завершении одного ее этапа, по завершении «одного себя», и по которому можно с успехом добраться до входа в другой этап жизни; пройдя определенным путем, обрести «другого себя». Но те, кто имеет дело с инициацией всерьез, никогда не обманывались касательно ее природы, описывая обряды перехода в терминах умирания и возрождения. Пространство инициации — это пространство смерти, и становится понятен пафос доклада В. Подороги на конференции, прошедшей в октябре 1999 года в ИМЛИ и посвященной «пограничным эпохам», состоявший в стремлении заставить слушателей почувствовать, что смерть как большое и однократное событие перестала существовать, что смерть расплылась, растеклась по всей жизни человека, что все мы уже в каком-то смысле умерли — и ничего особенного не произошло, и значит, все это вообще не очень важно и ничего страшного.
Авторы упоминавшихся здесь текстов ничего не придумали: наша жизнь существует в зоне, которая задумывающимися над этим вопросом современными философами опознается как мертвая. Литература пост- модерна оказалась именно там, где и должна была оказаться согласно заявке, в соответствии со своим именованием.
Текст Владимира Маканина [46] отличается тем, что вместо временнбого лабиринта в нем создается лабиринт нравственный. Нравственные ситуации, поставленные русской литературой, разрешавшей их трудом, потом и кровью — то есть так, как их только и можно разрешать в линейном, последовательном пространстве-времени текста, осваивающего опыт мира, у которого на месте еще и горизонталь и вертикаль (как бы на последнюю ни восставали), — эти нравственные ситуации оказываются здесь, подобно временам в других текстах постмодерна, изолированными, дискретными тупичками вдоль какого-то не затрагиваемого нравственными проблемами, без-нравственного (как в других случаях — без-временного) пространства героя. Он не проходит через них, как приходилось прежде, — измененный совершённым, с печатью греха, от которой можно избавиться, только миновав, осилив соответствующий круг Чистилища (см. «Божественную комедию»), но входит в них и… выходит: тем же путем, не преобразованный происшедшим, но лишь удостоверенный им в чем-то, в чем, впрочем, и прежде был убежден.
Отчасти это напоминает ситуацию Николая Ставрогина (Ф. М. Достоевский, «Бесы»), сразу, с детства оказавшегося во власти «мрачного демона иронии» и потому не познающего мир в общении с ним, не говорящего с миром, чтобы понять его и себя, но — экспериментирующего над ним, используя себя в качестве инструмента, орудия эксперимента. Экспериментирование характерно и для героя Маканина.
Именно поэтому в романе Маканина отсутствует неожиданность — ведь эксперимент проводится по подготовленным разработкам и имеет заранее ожидаемые результаты. А еще эксперимент не предполагает вмешательства неучтенных «обстоятельств» — поэтому все вертикальные связи обрезаны и террариум надежно упакован — under ground. Поэтому же не важно, было или не было какое-то событие реально в романной реальности. Мысленный эксперимент не сильно отличается от поставленного «на самом деле» — к жизни это все равно отношения не имеет.
Разделившись на «первичную» и «вторичную», половинки прежней целостности все больше утрачивают свойства собственно реальности. Литература не может этого игнорировать и констатирует это, хотя и по-разному относится к процессу. «Вторичная» реальность, согласившаяся со своим статусом, мстя за однажды допущенную по отношению к ней неучтивость, громко и задорно объявляет ныне «первичную» реальность лишь одним из не самых заслуживающих внимания вариантов «вторичной». Но есть литература, смутно и с тоской вспоминающая о том, что она — часть, а значит — о своей причастности. И вот в этом-то и заключается надежда — в тоске литературы, некоторых ее героев и авторов (а значит, и некоторых из нас) по действию вместо мечты, по жизни вместо приключения и «инициации», по настоящему времени и истинной вечности, а значит — по ответственности и свободе.
Касаткина Татьяна Александровна (род. в 1963) — литературовед, критик. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книги «Характерология Достоевского» (1996). Постоянный автор «Нового мира».
Максим Соколов и его Мнемозина
Максим Соколов. Поэтические воззрения россиян на историю. В 2-х книгах. М., «SPSL» — «Русская панорама», 1999. (Очерки новейшей истории).[Кн. 1]. Разыскания. 503 стр. [Кн. 2]. Дневники. 439 стр
Издательство «Русская панорама» выпустило двухтомник известного публициста-обозревателя Максима Соколова, оформив его примерно в той же монументальной стилистике, в какой издательство «Наука» оформляло в свое время столь любимую интеллигенцией серию «Литературные памятники». Сегодня, когда читатель приучен к гораздо более лихому дизайну источника знаний (присутствие в эстетических слоях обложки компьютерных технологий как бы намекает на наличие у автора современного мышления), консервативность данного издания вызывает даже некоторый шок. «Это что за Максим Соколов — тот самый Максим Соколов?» — спрашивает покупатель, выдернувший памятникоподобный том из тугого книжного пресса на уличном прилавке. «Тот самый, тот самый, — уверяет расторопный книгопродавец, распростершийся над прилавком будто птичка над гнездом и, возможно, никогда не читавший ни „Коммерсантъ“, ни „Русский телеграф“. — А вот еще и Саша Соколов, тоже двухтомник. Тоже очень хороший писатель!»