Стужа

Стужа читать книгу онлайн
Цензурные ограничения недавнего прошлого почти не позволяли Ю. Власову — известному общественному деятелю, писателю, спортсмену — публиковать свои произведения. В сборник Стужа вошли впервые издающиеся рассказы и повести, написанные автором еще пятнадцать — двадцать лет назад.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Combien coûtent ces cahiers de musique?.. [4] Это привычка — подыскивать в уме французские фразы к моменту.
Под стерней пыль. Подламывая стерню, руки прижимаются к пыли. Сама земля очень жесткая, в камень. Сколько ж трещин! Шаг по такой слышен очень далеко, если умеешь слушать…
Я развожу полы рубахи. Солнце основательней упирается в меня: горячо по плечам и ногам, где ткань, и жгуче, где я обнажен.
Разве так важно — жить? Ходить, дышать, спать… Разве все это было бы так славно, если бы не мои чувства? Разве чувства не разбужены мыслью?.. Всегда быть в той жизни, какой представляешь ее — тогда жизнь! И только для этого делать свои шаги… Здесь, сейчас, все дорого, понятно, — значит, от меня, для меня и от правды. Все теряет себя без естественности. А люди?.. И что лжет: рассудок или чувства?..
Бесцветно небо, даже беловато. Наверное, от пыли. Ветра нет, но пыль все равно стоит и стоит высоко. А может быть, ее нет. Просто небо так нагорячено.
Жаворонок, которого поток горячего воздуха выносит в небо как раз надо мной, оборачивает россыпь в раскатистое колено «жеребчика». Бесцветное небо гогочет жеребчиком. И этот гогот сменяет раскатистое «ха, ха, ха!» И это тоже он. И как же внятно и раздельно хохочет! И уже все голоса жаворонков — один протяжный звон. Поют, будто весна. Но ведь не весна, не весна…
…Улицы, деревья, дома… Каковы они на самом деле? Каковы без нашей выдумки! Какими станут и вообще все станет, если мы вдруг лишимся дара на все класть выдуманность?
Странно… не слышу птиц? И вообще ничего и никого не слышу. Вот я, солнце, жар… и огромная тишина.
Кто это сказал: мертвые населяют города, все свое в них убито?..
Волосы пушисты. Перебираю их пальцами. И суховаты жаром. Может быть, они копят жар? Умеют копить. Копят впрок. Конечно, это глупости…
Беззвучно носят за собой тени орланы-белохвосты. Как же высоко забрались! Ни за что не поверю, будто это единственно ради охоты. Как благородно легок воздух, что несет их!..
На памяти заветная притча Кости Леонтьева — женатый друг убеждает приятеля бросить холостячество и обзавестисть семьей:
«Что ты все один да один? Женись! Невеста есть, и хорошая! Ну чудная девушка — только чуть-чуть беременная…»
Костя (отпетый бабник и острослов!) всякий раз извлекает притчу на свет божий, когда речь заходит о чьей-либо женитьбе.
Я разом вспоминаю множество его амурных похождений, гнев мужей и отцов, шутки, фривольные песенки…
Не представляю, сколько я лежал. Отряхиваю труху и пыль с одежды. Закатываю рукава почти до плеч. Щурюсь на солнце:
— Дави, дави, желтоглазое, не возьмешь.
Взвожу курки. Покуда лежал — услышал перепелов. Они тут. Я топал среди них. Просто они не взлетают. Собаки нет — и они бегут, а на крыло идти ленятся. Вежливые, уступают дорогу… А по песням — «частохвосты»: крики на один поспешный, свистящий удар. Но настоящий «бой» — самая полная, самая глухая хрипь…
Надо петлять. И не плавно, а в рыск. Тогда подниму. Тогда обязательно увижу. Надо не плестись, а пойти зигзагами. И в зигзагах быть внезапным.
Ну и солнце! Стволы ожигают руку. Улыбаюсь: «кусаетесь». А с собакой — гиблое дело. Собака не вынесет. Я представляю заслюнявленную морду лягавой, надрывной дых, пасть, как печь. Нет, легаш не потянет по такому пеклу. С легашом на рассвете. Конечно, взять можно, но если тепловой удар, не спасешь. Здесь не спасешь…
А я выдержу. Мне и выдерживать не нужно. Это все мое: жар, открытость поля, солнце в верхушке дня. И наливаться водой не надо. Не хочу.
И напрасно я ныл: вовсе бесполезен бесшумный шаг. Это не утиная охота. Перепела и тетерева всегда бегут, если в лоб на них. Идешь без выстрела и соображаешь: пусто, нет птицы…
Графиня Мария Клейнмихель вспоминала о людях России формации до 1917 года:
«Русский может быть плохим сыном, братом, отцом или мужем, но он всегда хороший товарищ. С детства в душе его чувство товарищества преобладает над всеми остальными чувствами. В школе, в гимназии, в кадетском корпусе развивается в нем это чувство…»
Мне это особенно близко — я сызмальства в военной шинели, под погонами. Здесь товарищество — все: и выживание, и радость, и вообще все-все…
Сознание отсеяло именно эти слова и цепко держит. Много лет я уже с ними. Я все присматриваюсь к ним. Тот ли теперь русский?.. Я все сращиваю разрывы многих представлений — и не могу срастить. Что-то черное, едкое натекло в пропасть послереволюционных лег…
И я внезапно начинаю чувствовать, как вскидывается на крыло перепел… Нет, не тот, что бывал под выстрелом. Тот резв как бекас. Не так, конечно, но на выстрел тоже мало времени. Впрочем, выстрел здесь от инстинкта. Сливаешься с ружьем и полетом птицы. Конечно, не ошибся! Слышу наперед, как пойдут с земли перепела. Лениво. Очень лениво. Обидно стрелять. Тех, что станут подниматься у ног, надо отпускать. Подальше — метров на сорок. Иначе расшибу. Сейчас я увижу их. Розно пойдут, без всяких фокусов.
Я еще только прикидываю маршрут, я уже все слышу. И как взлетят, и как примет их тело. Я тогда слышу всем телом. Я как бы все повторяю с птицей. В одно с ней. Оттого мне всегда сподручно стрелять. Меня не учили стрелять по птице — военная стрельба по мишеням не в счет — а я всегда удачлив. Я неудачлив, когда не слышу птиц. Даже если их много, они не торопки, а я все равно неудачлив, если не слышу их. И во всем я таков. Пока не услышу, лучше не делать дело. Я просыпаюсь дня дела, когда услышу его весь. Я сразу вижу его от начата до конца. И даже если это дело на годы, все равно слышу его. Если и теряю это ощущение — после нахожу и делаю точно. Но это изнурительно. Я уже знаю: это когда-нибудь развалит меня, ведь важно слышать то, что делаешь. И когда его все время слышишь — это изнурительно, поскольку все время прилаживаешься, как сделать получше. Потому что это с тобой и днем, и ночью. И всегда с тобой. И ты всегда прилаживаешься на лучший заход к делу. А это скверно. Надо уметь отпадать от образов дела. Когда неразлучно с ним — это в износ. Мне потому и хорошо здесь: все забыто, нет ничего, я отпал от всего, что там, в Москве. И от всего, что было, будет. Просто есть мгновение — и я с ним. И от этого я в такой свободе шага, вольности. И я не боюсь отпускать себя, не нужны чувства — ведь дела нет. И все так славно. Господи, как славно! Только я и степь, шаги, солнце, эти стволы…
— Тебе не нужно жертвоприношение? — Я протягиваю солнцу первого битого перепела. Оно роняет огонь на мои плечи.
— Ятрышник, — дед Иван отсекает стебель, сковыривает землю с корня. — В этих клубеньках питания, скилько в добром харче. Скилько живу, ны думав, шо попадэтся на стэцу. Я такими клубеньками в войну ны одну душу спас. А лекарство? Нема лучше. От чахотки вирное средство. И колы потеряв сылу — восстанавливает. За эти клубеньки раньше золотом платили.
Он отирает рукавом суховатую землю. Бормочет: «Любы мэня, нэ покинь». Засовывает в карман. Потом дотошливо рассматривает каждого перепела: бит срамно или нет. Взвешивает рукой самого тучного, перещелкивает языком и принимается привычно ощипывать. Пух липнет к рукам, цепляется за траву. Дед отдувает его от лица. Поражает его лицо — без морщин, и брови не старчески кустистые или клочковатые, а тонкие, черные.
Дед Иван похож на моего деда Данилу — своего дядю. Я сужу лишь по фотографии, там деду Даниле за пятьдесят. После гибели дочерей и сына мой дед счах в несколько лет.
На той фотографии 1905-го года у деда Данилы бородка и усы под последнего царя; подбородок вздернут; взгляд быстрый, шальной; кубанка заломлена на затылок и во всей позе готовность сорваться. Дед Данила на фотографии сидит рядышком с моим прадедом Никитой Остаповичем — отчество его никто не помнит, кроме моей мамы. Прадед бел бородой, еще смольной по впадинам щек. В плечах и осанке — надорванность от лет. А газыри на черкеске покрупней, чем у зятя — деда Данилы. И нет на поясе кинжала в серебряной чеканке ножен. В руке прадеда прут. Кисти сильные, не старческие. Над газырями — кресты и медали за турецкую кампанию 1877–1878 годов.

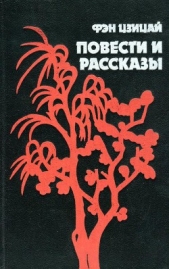


![Железные бабочки [ Железные бабочки. Удача Рэйлстоунов]](/uploads/posts/books/7670/7670.jpg)




















