Новеллы
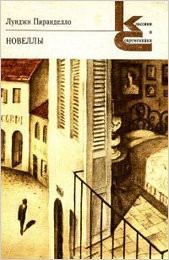
Новеллы читать книгу онлайн
Оба были близоруки и, разговаривая, стояли почти вплотную. Их нередко принимали за братьев: примерно одних лет, они во всем походили друг на друга - оба высокие, худощавые, прямые; все делали они аккуратно, с мелочной щепетильностью...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И я расхваливаю все подарочки, которые он приносит ему, чтобы доставить удовольствие Еуфемии. Бедный мри малыш следует моим советам и уже благоговеет перед ним. На днях, например, Флорестано водил его гулять, а вернувшись, со смехом рассказал мне, что во время прогулки, когда они переходили залитую солнцем площадь, Карлуччо вдруг вскрикнул, остановился и огорченно спросил:
— Я тебе сделал больно, дядя Флорестано?
— Нет, Карлуччо. Почему ты спрашиваешь? А мой малыш простодушно ответил:
— Я наступил на твою тень, дядя Флорестано.
Ну нет, это уж чересчур, бедненький мой Карлуччо! Ах ты дурачок! Знай же, что тень топтать можно; дядя Флорестано и твоя мамочка будут в свое время топтать тень твоего папы в уверенности, что они не делают ему больно, потому что при жизни они очень остерегались наступить ему хотя бы на ногу.
Какое между нами тремя идет состязание в вежливости! И в то же время — какое добровольное мученичество. Мне, бедному больному, хотелось бы безвольно плыть по течению, а я, наоборот, вынужден держать себя в руках, чтобы как можно меньше их отягощать, не то они окружат меня еще большим вниманием и заботой, а это иной раз вызывает во мне отвращение, даже ужас. Возможно, я не прав. Но зрелище нашей изысканной любезности, наших постоянных церемоний у порога смерти кажется мне тошнотворным балаганом. Я вижу, как они в желтых перчатках и с бесконечными реверансами мягко подталкивают меня к этому порогу; и мне кажется, что они низко кланяются мне и говорят с приятной улыбкой на устах:
— Ну проходи же. Счастливого пути! И будь уверен, мы всегда будем помнить тебя, такого доброго, такого благоразумного и рассудительного!
Они всегда говорили мне, что надо быть искренним. Искренним? Но для меня искренность означала бы в данный момент только одно: убить. Не дай Бог! Что меня удерживает?
Поговорим серьезно. Если бы я не был верующим, если бы не верил в Бога по–настоящему и думал бы, напротив, что со смертью кончается все, даже душа, и что, когда земля уйдет у меня из–под ног, меня поглотит пустота, и ничего больше, — вы думаете, что я не убил бы Флорестано?
Когда я ночью, во время бессонницы, представляю себе, как. он будет ложиться в мою постель, на мое место, со всеми моими правами на мою жену и на мои вещи; когда думаю, что в соседней комнате, лежа в кроватке, мой сыночек, мой сиротиночка ночью вдруг заплачет и позовет свою маму, а тот, может быть, скажет моей жене, если она захочет вскочить и посмотреть, что с моим малышом, почему он плачет: «Да пусть его плачет, дорогая, не вставай, еще простудишься.» — тогда, клянусь вам, я готов убить Флорестано!
А вместо этого я каждую ночь тихо сижу у окна и подолгу смотрю на небо. Там есть малюсенькая звездочка, от которой я не отвожу глаз, и я часто говорю ей:
— Жди меня, я приду!
А Еуфемии, которая как дочь вольнодумца, хвалится, что не верит в Бога, я часто повторяю:
— Верь, глупая: Бог есть. И благодари Его, слышишь? Благодари Его.
Еуфемия смотрит на меня, как будто ей кажется странным, что я, Лука Леучи, могу так говорить: ведь я, по ее мнению, вовсе не обязан верить в Бога, поскольку он плохо обращается со мной, заставляя так рано умереть. Но если она от всей души любит своего Флорестано, она еще будет благодарить Бога, когда ей в руки попадут эти листки.
Я прекрасно понимаю, что мне следует умереть как, можно скорее. Я иногда замечаю, как Флорестано взглядами и вздохами дает понять моей жене, какие желания терзают его, беднягу! Тогда я воображаю, как моя жена, томно склонив красивую белокурую голову на его широкую мощную грудь, ласково поглаживает его великолепные усы, легонько, двумя пальцами, расправляя их длинные рыжеватые волоски!.. О, блаженство! Потерпи и ты, дорогая моя Еуфемия! А те ночные словечки, которые ты твердила, обнимая меня, ты будешь говорить и ему, почти не сознавая этого:
— Радость моя... Ах, дорогой... да, да... Дорогой, дорогой... Я начинаю неудержимо смеяться. Тогда оба они удивленно спрашивают меня, над чем я смеюсь; я отделываюсь шуткой, а Флорестано замечает:
— Ты до старости, дорогой Леучи, останешься все таким же шутником.
Но часто мне не удается быть шутником, как называет меня мой друг. Остроты мои против воли становятся едкими, и тогда Флорестано, сидящему рядом со мной в экипаже, бывает не по себе. Я ему говорю:
— Я предложил бы тебе, дорогой Флорестано, очутиться на минуту в моем положении, если бы оно не было таким скверным. Уверяю тебя, что у тебя появилось бы такое же странное чувство, как у меня, если бы ты был способен видеть жизнь такой, какой она останется для других, будучи при этом уверен, что для тебя она кончится очень скоро — может быть, даже пока ты об этом говоришь, — и представлять себе, как поведут себя другие, когда тебя не станет.
Я выражаюсь ясно, но Флорестано делает вид, что не понимает. А я продолжаю:
— Дорогой Флорестано, я даже знаю, например какой венок с фарфоровыми цветами ты возложишь на мою могилу, когда меня зароют.
Флорестано принимается мне возражать, и тогда я умолкаю: сижу, такой худой, бледный и грустный, и смотрю из угла коляски, едущей шагом по просторным аллеям Джаниколо, на мирное зрелище заходящего солнца; и не все ли равно, как будут другие наслаждаться жизнью, хотя бы и горькой? Вот этот широкоплечий здоровяк, который сидит рядом со мной и вздыхает; моя жена, которая тоже вздыхает, сидя дома; а еще мой малыш (уже без меня), который когда–нибудь, очень скоро, начисто забудет, кем я был, какой я был!
— Папа...
А Флорестано, обернувшись, нетерпеливо ответит ему:
— Ну что тебе?
Муж твоей матери, Карлуччо, он тебе не настоящий папа. Понимаешь?
И все–таки жизнь, Карлуччо, — она так прекрасна... так полна.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (Перевод А. Косе)
Когда через много–много лет Паоло Марра вернулся в свой родной город, уныло пристроившийся на холме, он понял, что для отца крушение началось, по сути, в тот момент, когда он начал строить дом для себя самого, после того как построил столько домов для других.
И понял это Паоло Марра, как только снова увидел отцовский дом, где недолго прожил ребенком; дом этот, уже давно ставший для него чужим, стоял в верхней части города на одной из старых улиц, спускавшихся по склону и напоминавших пересохшие реки, от которых остались лишь выстланные булыжником русла.
Зримым образом отцовского крушения была арка ворот — самих ворот так и не навесили, — которая полукружием возвышалась с обеих сторон над стенами, отгораживавшими от. улицы просторный двор перед домом; стены эти, выложенные из красного камня, так и остались недостроенными и теперь казались старыми.
Посреди двора, тоже поднимавшегося вверх по склону и вымощенного, как улица, булыжником, был большой колодец. Красноватый лак на железной ручке ворота был теперь почти весь съеден ржавчиной. И какой печалью веяло от этой облупившейся ручки, которая казалась больной. Может быть, больной она казалась из–за того, что ворот тоскливо скрипел, когда по ночам веревку шевелил ветер; а небо, ясное и звездное, но подернутое тончайшей дымкой, словно пылью, припорошившей его прозрачность, как будто замерло над безлюдным двором навсегда.
Отец хотел, чтобы дом стоял подальше от улицы, потому–то и задумал этот двор. Но затем — в предчувствии, быть может, что пользы от его стараний все равно не будет, — прекратил работы, оставив арку недостроенной и доведя стены лишь до половины высоты.
Вначале никто из прохожих не решался зайти во двор, потому что там еще лежало множество нетесаных камней, и по этой причине казалось, что работы просто приостановлены и скоро возобновятся. Но как только между булыжниками и вдоль стен начала прорастать трава, ненужные уже камни стали казаться старыми и отслужившими свое. Часть их со двора унесли после смерти отца, когда дом был продан трем разным покупателям, а прав на двор никто не предъявил; часть же заменила скамейки окрестным кумушкам, которые с тех пор как бы присвоили себе двор и заодно колодец: здесь они стирали белье и здесь же развешивали его на просушку; а затем, покуда солнце пронизывало веселым светом слепящую белизну простынь и сорочек, развевающихся на веревках, женщины распускали по плечам блестевшие от масла волосы и начинали искаться, как это делают обезьяны.


























