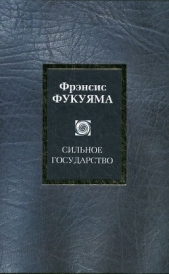Наша трагическая вселенная
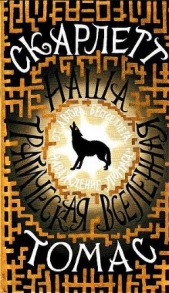
Наша трагическая вселенная читать книгу онлайн
Свой первый роман английская писательница Скарлетт Томас опубликовала в 26 лет. Затем выпустила еще два, и газета Independent on Sunday включила ее в престижный список двадцати лучших молодых авторов. Ее предпоследняя книга «Наваждение Люмаса» стала международным бестселлером. «Наша трагическая вселенная» — новый роман Скарлетт Томас.
Мег считает себя писательницей. Она мечтает написать «настоящую» книгу, но вместо этого вынуждена заниматься «заказной» беллетристикой: ей приходится оплачивать дом, в котором она задыхается от сырости, а также содержать бойфренда, отношения с которым давно зашли в тупик. Вдобавок она влюбляется в другого мужчину: он годится ей в отцы, да еще и не свободен. Однако все внезапно меняется, когда у нее под рукой оказывается книга психоаналитика Келси Ньюмана. Если верить его теории о конце вселенной, то всем нам предстоит жить вечно. Мег никак не может забыть слова Ньюмана, и они начинают необъяснимым образом влиять на ее жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она широко улыбнулась и добавила:
— Хотя не Толстого.
Ви говорила по-английски с акцентом, который эволюционировал одновременно в нескольких направлениях, как организм, перенесший процесс адаптивной радиации. Слово «хотя» вместо «но» использовали австралийцы — я знала это по их мыльным операм и еще потому, что так говорил Фрэнк, а он был родом из Австралии.
— Да, — согласился Фрэнк. — К сожалению, у них оказались принципиально разные взгляды на природу бытия. Толстой считал, что в основе всего лежит дух, а Чехов был материалистом. Ну, в той или иной степени.
Фрэнк посмотрел на меня.
— Мег, ты что-нибудь знаешь о письмах Чехова?
— Нет. Ну то есть до сегодняшнего дня не знала. Но теперь непременно возьму их в библиотеке. Похоже, это отличная вещь. Так почему же ему разонравился Толстой? Как вообще кому-то может разонравиться Толстой?
Про Толстого нам Фрэнк уже читал лекции, а про Чехова еще нет.
— По большому счету, все дело было в классовых различиях, — объяснил Фрэнк. — Чехов уже видел разницу между тем, как писал он, и тем, как писал Толстой, — он упоминает об этом в письме, о котором я говорил раньше. Там он отмечает, что Толстой и Тургенев «брезгают» многими вопросами морали. Чехову это претило. И не только потому, что он был врачом. Он происходил из очень бедной семьи и писал в основном для того, чтобы спасти родных от голода. Он помогал своим близким до самой смерти. Его старшие братья оба были алкоголиками и семье совсем не помогали. Жизнь низших слоев была знакома ему не понаслышке: грязь, бедность — «навозная куча» жизни. В Толстом он видел некоторое упрощение моральных проблем и, возможно, даже некоторую наивность — по крайней мере, он говорил об этом, пока не познакомился с ним лично. Чехов высоко ценил прогресс. Он говорил так: «в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса». [45]Меня это замечание очень заинтриговало, когда я впервые его прочитал. Толстой, человек из богатой семьи, считал, что жизнь крестьянина добродетельна в своей простоте. Но Чехов-то на собственной шкуре испытал эту «добродетель». Он едал такой жидкий гусиный суп, что, как сам описывал, выловить из него можно было только что-то похожее на грязь, которая остается в ванне после того, как в ней помылась жирная торговка. Ему доводилось спать в корыте. Он был счастлив вырваться из провинциального городка, Таганрога, и оказаться в Петербурге, где было так много интеллигентных людей и хорошей еды. В крестьянах и деревенских пейзажах он не видел никакой романтики. Интересно сравнить его рассказ «Мужики» с теми отрывками «Анны Карениной», где Левин размышляет о том, что сможет достичь просветления, если станет выполнять тяжелую работу крестьян. Однако в чеховском рассказе жизнь крестьян просто-напросто скучна, беспросветна и полна страданий. Но в конечном итоге он все же очень сблизился с Толстым, и они прекрасно ладили. Чехов всегда видел в нем старшего товарища и учителя.
— Я не хочу ни с кем спорить, — включился в разговор Тони. — Но есть ли смысл пытаться теперь понять, кем писатели «были на самом деле» и что «на самом деле означали» их великие произведения?
— Очень верное замечание, — похвалил его Фрэнк. — Чехов и сам об этом говорил. Мысль не новая. Он был бы сейчас абсолютно с тобой согласен. Его всегда критиковали за излишний реализм. Но ему не важно было, кого в нем увидят — либерала или консерватора, главное, что он говорит правду и не допускает пафоса. А уж судить его — дело читателя.
— Разве нам нужно разрешение автора на то, чтобы увидеть в его произведениях то, что нам хочется?
— Конечно, нет, но…
— Но дело ведь не только в том, чтобы видеть то, «что нам нравится», правда? — сказала я. — Ведь существует еще и такая вещь, как аффективное заблуждение.
— Ага, значит, ты все-таки слушаешь, о чем говорят на лекциях, — обрадовался Тони.
— А, эту лекцию я тоже слышала, — сказала Ви. — Она называлась «Смерть автора», да? Хорошая лекция, если не считать того момента, когда речь зашла о бесконечности и обезьянах.
— Вы разве ее слушали? — удивился Тони.
— Ага, я беру записи лекций других отделений с собой в самолет, когда путешествую. С тех пор как я перестала читать детективные романы, мне пришлось искать что-нибудь другое для чтения во время длительных перелетов. Еще я читаю буддийские притчи, но они очень короткие. Вообще-то стопки книг, которые я читаю, всегда выше моего роста, но в самолете мне нужно что-нибудь такое, тупое, чтобы можно было полностью отключиться.
— Спасибо, — кивнул Тони. — Приятно осознавать, что мои «тупые» лекции помогают вам отключаться.
— Не обижайтесь, — улыбнулась Ви. — Ваши еще не самые плохие. Возможно, «тупое» — не самое подходящее слово. Но, знаете, бывают такие книги, которые разъясняют сложные вещи простым языком? В XIX веке их было куда больше, чем сейчас, и это очень обидно. Я бы с удовольствием читала такие книжки в самолетах. Так вот университетские лекции — это почти то же самое. Лекции из курса по истории математики мне тоже очень нравятся. Я бы слушала и обычные математические лекции, но их, к сожалению, не записывают на диктофон, потому что там очень важно смотреть на доску, на которой пишет лектор.
— Ви изучает теорию повествования, — объяснил Фрэнк. — Когда она спросила у меня, какие лекции нашего отделения ей следует послушать, я, конечно же, предложил тебя.
— А какое отношение антропология имеет к теории повествования? — спросил Тони. — И уж тем более математика?
— Эм-м… Клод Леви-Стросс? — наморщила лоб Ви.
— Ах, да, понятно, — Тони покачал головой. — И еще, я полагаю, Владимир Пропп. И вообще все фольклористы и структуралисты.
Он взглянул на меня.
— Ты, кажется, ходила на мои лекции по структурализму на первом курсе?
Я помотала головой.
— Не помню таких лекций.
— Леви-Стросс полагал, что все истории могут быть выражены с помощью одного-единственного уравнения, — сказала Ви. — Он пишет об этом очень эмоционально. Набросав что-то вроде гипотетической общей «формулы», он вдруг объявляет, что французская антропология стеснена в средствах, и поэтому он не может завершить свое исследование, так как ему понадобилась бы для этого целая команда людей и лаборатория покрупнее. Он собирал мифы и выписывал их мифемы на большие куски картона, и в итоге у него просто-напросто физически не хватило места для хранения этих картонок. Он не был оснащен тем, что называл «оборудованием Ай-би-эм», но лично я слабо представляю себе, каким образом ему бы помог компьютер. Лично мой после каждой главы книги готовится торжественно погибнуть, не в силах сносить такого напряжения.
— В наш курс Владимир Пропп тоже входит, — сказал Фрэнк. — Он изучал русские народные сказки и тоже составил общую для них «формулу». Он утверждал, что все они построены из определенного числа элементов — примерно так же, как из одних и тех же ингредиентов готовятся совершенно разные блюда. Например, многие сказки начинаются с того, что на героя налагают какой-нибудь запрет — скажем, запрещают заглядывать в шкаф или срывать с дерево яблоко. Мотив запрета Пропп обозначает кодовым знаком Y1.
— А потом герой непременно делает то, что было запрещено, да? — спросила я, хотя сама прекрасно знала ответ.
— Непременно, — кивнул Фрэнк.
— То есть вся литература одинакова?
— Нет-нет, — Ви энергично замотала головой. — Существуют истории, в которых нет никакой формулы, но встречаются они реже. Математически они выражаются совсем по-другому. Для того чтобы составить уравнение таких историй, понадобятся мнимые числа — квадратные корни из отрицательных чисел. Я сейчас как раз пишу работу на эту тему.
Тут привезли нашу пиццу, и Ви больше ничего не рассказала про свою работу.
— Так что же вам не понравилось в моих обезьянах? — спросил Тони у Ви, когда все приступили к еде.
— Нет, в каком-то смысле с обезьянами все в порядке, просто мне показалось, что вы искажаете идею бесконечности. Вы говорите, что, если бы в их распоряжении было бесконечно много времени, миллион или даже большее число обезьян в конечном итоге могли бы создать произведение, достойное пера Шекспира, просто потому что вероятность этого крайне велика.