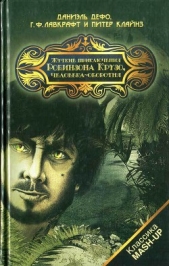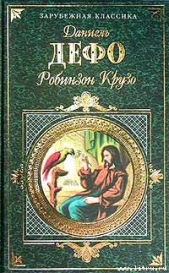Тропик любви
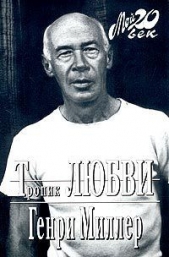
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Раньше или позже, но каждому улыбается удача, — обычно говорил я ему. — Не все же быть одним неприятностям! Существует ведь пословица: «Нет худа без добра»!
Если он был в настроении слушать меня, я мог даже пойти дальше и сказать:
— Почему бы вам на какое-то время не оставить звезды в покое? Почему бы не отдохнуть от них и действовать так, как будто удача на вашей стороне? Кто знает, что может произойти? Вы можете встретить на улице человека, совершенно незнакомого, и он окажется тем, кто откроет двери, которые, как вы считаете, закрыты для вас. А еще существует такая вещь, как Божья милость. Вы знаете, что она возможна, если соответствующим образом настроиться, если быть внутренне готовым к тому, что что-то произойдет. И если забыть о том, что начертано на небесах.
На такого рода выступления он отвечал одним из тех странных взглядов, в которых многое читалось. Он даже улыбался мне — одной из тех мягких, грустных улыбок, которыми снисходительный родитель улыбается ребенку, требующему от него невозможного. Он не спешил возражать, хотя у него всегда было что мне возразить и что он, конечно, уже устал делать, когда его вот так загоняли в угол. В паузе, которая за этим следовала, он делал вид, будто впервые задумывается о своих убеждениях, быстро взвешивает (в тысячный раз) все, что когда-либо говорил или думал на эту тему, впрыскивает себе дозу сомнения, расширяет и углубляет проблему до пределов, какие ни я, ни кто другой не способен представить, прежде чем медленно, веско, спокойно и логично сформулировать первые фразы своей защитной речи.
— Mon vieux, [287] — слышу я, как сейчас. — Необходимо понимать, что такое случай. Вселенная повинуется собственным законам, и эти законы влияют как на судьбу человека, так и на рождение и движение планет. — Откинувшись на спинку удобного вращающегося кресла и слегка повернув его, чтобы его схема оказалась перед глазами, он добавлял: — Взгляните на это! — Он имел в виду свое безнадежное положение, на которое указывал в данный момент его Зодиак. Потом, достав из портфеля, который всегда держал под рукой, мою схему, просил внимательно взглянуть вместе с ним на нее. — В настоящее время единственное спасение для меня, — торжественно объявлял он, — вы. Вот, смотрите, это вы! — И он показывал, как и где появлялся я на его схеме. — Вы и этот ангел, Анаис. Без вас двоих я бы окончательно пропал!
— Но почему вы не воспримете такую ситуацию более положительно? — восклицал я. — Если мы, я и Анаис, там, на вашей схеме, если мы, по вашему мнению, играем такую роль в вашей судьбе, почему не поверите в нас, не доверитесь нам? Почему не позволяете помочь вам освободиться? Ведь человек способен сделать бесконечно много для другого, разве не так?
Конечно, у него и на это находился ответ. Самая большая его беда была в том, что у него на все был ответ. Он не отрицал могущества веры. Но совершенно искренне говорил, что принадлежит к людям, которым не дано уверовать. Это было в его гороскопе — отсутствие веры. Что тут можно сделать? Однако он забывал добавить, что он выбрал стезю знания и тем самым подрезал себе крылья.
Лишь спустя годы он в разговоре со мной слегка коснулся сущности и первопричины своей кастрации, которую называл отсутствием веры. Корни ее были в его детских годах, в отсутствии родительской ласки и заботы, в извращенной жестокости учителей, особенно одного из них, который самым бесчеловечным образом унижал и мучил его. Это была отвратительная, горькая история, вполне оправдывавшая его низкий моральный дух, его духовную деградацию.
Перед войной, как всегда, царило нервное возбуждение. С приближением конца все исказилось, разбухло, ускорилось. Богачи были деятельны, как пчелы или муравьи, стремясь сохранить свои капиталы и активы, особняки, яхты, ценные бумаги, рудники, бриллианты и сокровища искусства. Один мой близкий друг тогда мотался с континента на континент, оказывая услуги этим охваченным паникой клиентам, которые пытались дать деру. Он рассказывал истории просто невероятные. И в то же время такие знакомые. Такие старые. (Можно ли представить себе толпы миллионеров?) Невероятные истории рассказывал и другой мой друг, инженер-химик, который появлялся, как на обеденный перерыв, и тут же снова исчезал где-нибудь в Китае, Маньчжурии, Монголии, Тибете, Персии, Афганистане, то есть там, где затевалась очередная дьяволиада. И всегда это была все та же история — об интригах, грабеже, взяточничестве, вероломстве, самых сатанинских заговорах и планах. До войны оставался еще примерно год, но признаки были безошибочны, признаки не только Второй мировой, но войн и революций, которым предстояло последовать за ней.
Даже «богему» повыметало из ее щелей. Поразительно, как много молодых интеллектуалов уже было согнано с места, оказалось не удел или в положении пешек на службе у неведомых хозяев. Каждый день ко мне наведывался самый неожиданный народ. Всех интересовал только один вопрос: когда? Чтобы успеть взять от жизни все! И мы брали, мы, кто держался до последнего гудка отходящего парохода.
Морикан не принимал участия в этом бесшабашном веселье. Он был не из тех, кого приглашают на шумную вечеринку, которая обещает закончиться скандалом, пьяным беспамятством или визитом полиции. Да у меня и мысли такой не возникало. Когда я приглашал его пойти куда-нибудь поесть, я с большой осмотрительностью выбирал двух-трех человек, которые могли бы составить нам компанию. Обычно это были люди одного круга. Астрологическая братия, так сказать.
Однажды он явился ко мне без предварительной договоренности, что для Морикана было редкостным нарушением правил этикета. С ликующим видом он объяснил, что весь день провел у книжных развалов на набережной. Наконец он выудил из кармана маленький сверток и протянул мне. «Это вам!» — сказал он с чувством. По его торжественному тону я понял, что он дарил мне нечто, что только я мог оценить по достоинству.
Книга, а это была книга, оказалась бальзаковской «Серафитой».
Не возникни тогда «Серафита», очень сомневаюсь, что мое приключение с Мориканом закончилось бы так, как оно закончилось. Скоро вы увидите, какую цену пришлось мне заплатить за этот замечательный подарок.
Пока же хочу подчеркнуть, что в соответствии с лихорадочностью жизни в то время, ее убыстрившемся ритмом, ее особым безумием, которое сказалось на всех, на писателях, возможно, больше других, по крайней мере, на мне, возросла и интенсивность духовной жизни. Люди, чьи пути пересекались с моими, ежедневные события, которые другому показались бы мелкими, воспринимались мною совершенно по-особому. Во всем было колдовское очарование, не только вдохновляющее и возбуждающее, но часто рождающее видения. Простая прогулка по парижским предместьям — Монружу, Шантийи, Кремлен-Бисетру, Иври — способна была на весь остаток дня лишить душевного равновесия. Я любил с раннего утра ощутить это состоянье беспокойства, катастрофы, неопределенности. (Прогулки я совершал перед завтраком, для «моциона». Голова легкая, ни единой мысли — так я готовился к долгому сиденью за пишущей машинкой.) По рю де Томб-Иссуар я шел в сторону внешних бульваров, потом углублялся в предместья, позволяя ногам нести меня куда им заблагорассудится. На обратном пути я всегда инстинктивно шагал в сторону Пляс де Рунжи; какая-то мистическая связь существовала между нею и определенными эпизодами из фильма «L'Age d'or», [288] а особенно с самим Луисом Бунюэлем. [289] Причудливые названия прилегающих улочек, нездешняя атмосфера, совершенно особые уличные мальчишки, бродяги и чудовища, словно явившиеся из другого мира, сообщали ей какую-то мрачную притягательность. Часто я садился на скамейку в сквере, закрывал глаза на несколько мгновений, чтобы отрешиться от настоящего, затем резко открывал их и глядел на окружающее отсутствующим взглядом сомнамбулы. Перед моим остекленевшим взглядом проплывали козы из banlieue, [290] сходни, спринцовки, спасательные пояса, металлические мачты, passerelles [291] и sauterelles, [292] a с ними обезглавленные куры, украшенные лентами рога, ржавые швейные машинки, мироточащие иконы и прочие невероятные вещи. Все это было не признаками района или округи, но составляющие вектора, совершенно особого вектора, созданного исключительно на пользу мне как художнику, созданного с намерением завязать меня в эмоциональный узел. Шагая по рю де ла Фонтен а Муляр, я отчаянно старался не дать расплескаться экстазу, сохранить и удержать в голове (пока не сяду за машинку после завтрака) три совершенно несовместимых образа, которые, если удастся их успешно соединить, позволят мне вбить клин в трудное место (моей книги), которое я не мог расколоть накануне. Рю Брийя-Саварен, что вьется змеей позади площади, уравновешивает произведения Элифаса Леви, [293] рю Бют-о-Кай (расположенная дальше) приводит на память остановки на крестном пути Христа, рю Фелисьен Ропс (отходящая под другим углом) встречает звоном колоколов и треском голубиных крыльев. Если у меня голова раскалывалась от похмелья, а такое бывало часто, все эти ассоциации, деформации и смешения становились еще более по-донкихотски живей и ярче. В такие дни можно было запросто получить с первой почтой второй или третий экземпляр «И цзин», альбом пластинок Скрябина, тоненькое жизнеописание Джеймса Энзора [294] или трактат о живописи Пико делла Мирандола. [295] У моего письменного стола, напоминанием о недавних пирушках, ровными рядами всегда стояли пустые бутылки: нюи сент-жорж, жевре-шамбертен, кло-вежо, вон-романе, мерсо, траминер, шато о-брион, шамболь-мюсиньи, монтраше, боне, божоле, анжу и «vin de predilection» [296] Бальзака — вовре. Старинные друзья, пусть и опустошенные до последней капли. Некоторые еще хранили легкий след своего букета.