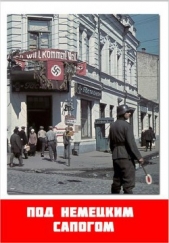Эти двери не для всех

Эти двери не для всех читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Тема послал Полетаева договариваться. Дали вверх три очереди трассерами (“ поговорим? ”), и Полетаев пошел через Зубовскую. И только Кишкюнас знал (а он все на свете знал), что, когда Полетаев, напряженно сопя, подошел к перевернутому автобусу – встретили его майор и два сержанта. Они нехорошо глядели. По майору было видно, как он говорунов сионистов и смутьянов ненавидит. А уж у бойцов просто пропечатано было на лбах: “ этоестьнашпоследнийирешительныйбой ”. И тогда Полетаев принял озабоченный вид, шагнул вперед и спросил:
“Мужики… Мужики, где тут у вас поссать?.. А? Сил нет… ”
Это был гол. Уголки губ чуть дернулись вверх, стволы чуть качнулись вниз. Где-то на небеси ударил колокол, кто-то высший перевесил полетаевскую бирку на другой крючок.
Полетаев показал свой талант.
С майором они потом час лаялись, за грудки друг друга таскали, сержанты то брови сводили, то ржали, но зато весь этот час никто ни в кого не стрелял. А когда Тема, беспокоясь, уже на армейской волне стал спрашивать, как там его герой, Полетаев и майор, чугунно пьяные, сидя на асфальте, привалившись к колесу бэтээра, докурили и окончательно решили, что подразделение майора Андросова отойдет к Смоленке, получит подтверждение и выдвинется к
Кольцу. А батальон “Берта ” соберет свою хурду-мурду, отзовет форс-группы, того дурака, что на четвертом этаже бликует, тоже отзовет и уйдет за Крымский мост.
Прошло несколько лет, все вернулось на круги своя. Профи стали возвращаться – с дач, из посольств, из резерва.
Кишкюнас приехал на черном лимузине в Институт, вежливо отстранил перепуганного Штюрмера и прошел в сектор к
Полетаеву. Сначала, конечно, он завел разговор, полный околичностей и воспоминаний. Полетаев вежливо поднимал брови.
Потом Кишкюнас разложил веером фотографии: Полетаев на заседании Штаба, Полетаев возле перевернутого автобуса на
Зубовской, Полетаев с Городецким.
Кишкюнас настойчиво втолковывал: “Я же не предлагаю вам,
Борис, бегать по крышам с наганом, зажатым в потной руке!
Много в вашей жизни было случаев, когда никто не может, а вы можете? Так вот это – тот самый случай ”.
А накануне еще Вера, может быть, глянула на Полетаева “ особенно ”… Словом, Кишкюнас Полетаева уговорил.
В кафе то и дело открывались двери, входили люди – выпить рюмку, что-нибудь съесть, укрыться от дождя. Двое мужиков порознь потягивали коньяк. Пятеро студентов громко разговаривали – раздражало! Полетаев взглянул на часы.
“Еще пять минут, – подумал он. – Катя подождет. Да она и не выходит вовремя. Еще пять минут, и еще одна рюмка ”.
Студенты громко засмеялись – Полетаев поморщился. Он не любил отроков и отроковиц, не любил любого вида буршей, не любил громкой речи и чужих детей.
“А вот, к примеру, сунься я за советом к Гаривасу – что бы он сказал?
Я бы ему: “Вовка, I am sad and tired, мне очень нужно, чтобы мироздание меня приободрило… Жена – хрен с ней, но, кажется, у меня дочка протекает между пальцами…
Хреновые дела, Вовка… ” А Гаривас: “ В чем, собственно, дело? Почему надо с тобой нянькаться? Потому, что ты женат на стерве? А что, ты первый человек, женатый на стерве? Надевай кепку и уходи. И не хрен печально садить коньяк на фоне осеннего дождя…””
Так сказал бы Гаривас.
Гаривас – это Гаривас. Нужно денег, нужно дельного совета, нужно прикрыть короткими очередями – пожалуйста. А за сочувственными соплями – будьте любезны, в другую кассу…
Тут Полетаев негромко рассмеялся – вспомнил, как восемь лет назад Гаривас подытожил сомнения младшего Бравермана.
Старший, Гарик, в этой жизни не суетился, он был активный хирург, ему хватало страстей по месту службы. А Павлик, младшой, метался, как курица по проезжей части. Однажды
Павлик получил письмо из американского посольства – сообщали, что он вошел в квоту. Может паковаться.
А Пашка-то уже позабыл, как за год до этого, поддавшись тогдашнему психозу, заполнял анкеты. Они все тогда очень веселились, помогая Пашке их заполнять. Ну то, что у Пашки пятая группа инвалидности, то, что его семья подвергалась преследованиям в течение всей советской власти, – это понятно… Кстати, так и было – с преследованиями в семье был полный порядок… Для убедительности они приложили к комплекту документов полароидный снимок: Пашкина дверь, а на ней жирно намалевано: “ЖИДЫ – ВОН!” Эта же надпись для верности была продублирована на английском…
За прошедший год между тем издательство “Московский рабочий ” издало и переиздало “ Прогулки с Баневым ”,
Пашкино детище, любимое и лелеянное
(а потом еще и “Книжный сад ” издал “ Прогулки ”). И дела у Пашки шли прекрасно. Но, получив письмо с Новинского бульвара, жизнерадостный Пашка впал в меланхолию. Он так накрутил себя за считанные недели, что дилемма “ ехать – не ехать ” встала по своей значимости для него самого и, по его разумению, для всей национальной культуры вровень со “ что делать? ” и “ кто виноват? ”.
И вот однажды, в конце июня, Ванька, Гаривас, Полетаев и
Пашка ехали в Ленинград на поезде “ЭР -200”. Ехал, собственно, Иван, ехал к своей невесте Женьке, а остальные увязались за ним под обаяние белых ночей и Пашкин аванс в
“Неве ”.
Итак, они съели прекрасную солянку, жаркое в горшочках, выпили две бутылки “Варцихе ” и курили в тамбуре. Тут
Пашка завел свою бодягу: “ Ехать – не ехать ”. Скорбел лицом и канючил: “Кто я буду там?.. А с другой стороны – кто я здесь? ” Пашкиным друзьям это нытье осточертело до крайности. Они уже были согласны на все – на то, чтобы
Пашка уехал, на то, чтобы Пашка никогда никуда не уезжал, на то, чтобы Пашка поселился в деревне и воспел соху, на то, чтобы Пашка поселился на улице Архипова и воспел Сион, они были согласны на все, лишь бы Пашка заткнулся.
“Вот что, Бравик, – сказал Гаривас (и все притихли, надеясь на Гариваса и предвкушая конец нытью). – Вот что, брат… Не зуди. Люди уезжают потому, что несчастливы здесь и рассчитывают стать счастливыми там. Остальное – чешуя”.
И Пашка не обиделся, пожал плечами, разулыбался.
Впоследствии два раза подолгу жил в Америке и дважды там издавался.
“Мне бы знак какой… – думал Полетаев. – Знамение. Ну малость такую можно мне? А дальше я сам – твердо и спокойно ”.
Он допил свой коньяк и распечатал жевательную резинку.
Хотя Катя все равно учует коньяк.
Полетаев скривился.
“Вообще это перебор… Зарабатывает меньше мамы, старая кожанка, и к вечеру – пьяненький… Это перебор ”.
И еще он подумал: “У меня свои привычки – так и у Верки свои привычки! Мне удобна моя глухая оборона, а Верке – ее полупрезрение-полуирония. Это ей необходимо. Ей мало ее очевидной состоятельности. Ей нужно, чтобы рядышком был я, ватный и некарьерный. Она просто любит иногда меня за это… Черт! Но почему с такой яркой женщиной мне так серо и тошно?.. Равномерно серо и тошно много лет. Только редкие светлые периоды… Человечество любит тех, кто любит человечество. И я не мазохист. Я тогда потому так к
Верке потянулся, что у нее глаза горели, что она ноготь сломала, когда на мне рубашку расстегивала… Наша с ней жизнь – какая-то серая муть. Вот пробыли бы мы на Итаке на неделю больше, я бы вынырнул из этой мути окончательно ”.
Он встал, погасил сигарету и вышел из кафе.
“Дела я запустил – дальше некуда. Но это ничего. Чем хуже
– тем лучше… ”
И еще одно спасительное свойство имелось у Полетаева – он поднимался из нокдаунов. Когда становилось совсем плохо, он зверел. Второе дыхание. Он и сейчас на него рассчитывал. Впервые такое произошло с ним десять лет назад, когда он делал соискательскую работу о Белле. Он мог получить (получил в итоге) штатное место в Институте, необходимо было пройти конкурс. Но более штатного места его тогда интересовало мнение Веры, Темы Белова и Марты – они много ждали от него, это было очень приятно, это обязывало. И Полетаев за месяц сделал прекрасную работу.
Сначала по “Глазами клоуна ”, потом по “ Хлебу ранних лет