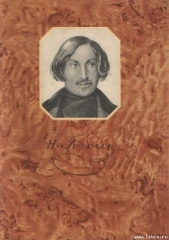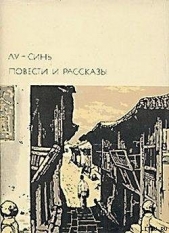Повести. Рассказы

Повести. Рассказы читать книгу онлайн
Предлагаемый сборник произведений имеет целью познакомить читателя с наиболее значительными произведениями великого китайского писателя Лу Синя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот, глядите, даже распятые с ним вместе…
Кругом одни враги, достойные жалости, достойные проклятий…
Превозмогая острую боль в руках и ногах, он испытывает скорбь — оттого, что эти жалкие люди убивают сына божьего, и упивается радостью — оттого, что эти проклятые люди распяли сына божьего и что сын божий ими распят. Внезапно жгучая боль от раздробленных костей проникает в самое сердце, и тогда он навеки погружается в великую радость и великую скорбь.
Вздымается чрево его, это волны боли, жалости, проклятий.
Тьма окутывает землю.
«Элои, элои! Лама савахфани?!» (Это значит: «Боже мой, боже мой! Для чего ты меня оставил?!») Бог покинул его, он так и остался «сыном человеческим». Но люди Израиля все же распяли его, хотя он и «сын человеческий». Эти люди, распявшие «сына человеческого», запятнали себя кровью больше, чем если бы распяли «сына божьего». От них еще сильнее пахнет кровью.
Декабрь 1924 г.
НАДЕЖДА
Мое сердце очень одиноко.
Но оно спокойно: в нем нет ни любви, ни ненависти, нет ни горя, ни радости, нет ни красок, ни звуков.
Наверное, я состарился. Волосы у меня стали седыми — разве в этом есть что-то непонятное? Руки мои дрожат — разве и в этом есть что-то непонятное? Значит, у моей души тоже дрожат руки и волосы тоже поседели.
Но случилось это уже много лет тому назад.
А до этого и мое сердце переполняли кровавые песни: кровь и железо, пламя и яд, возрождение и месть. Вдруг все сменилось пустотой. Лишь иногда, чтобы обмануть самого себя, я заполнял эту пустоту напрасной надеждой. Надежда, надежда! Щитом надежды я отражал натиск темной ночи в пустоте, хотя позади щита была все та же темная ночь, все та же пустота. Вот так постепенно я растранжирил свою юность.
Разве я не знал, что юность моя давно умерла? Просто я считал, что вокруг меня тоже непременно существует юность: звезды, лунный свет, гибнущие бабочки, ночные цветы, зловещие стенания совы, надсадный крик кукушки, неуловимая игра улыбок, пляски любви… Пусть это унылая туманная юность, но все-таки юность…
Отчего же теперь мне так одиноко? Неужто и вокруг меня юность погибла и чуть ли не вся молодежь одряхлела?
Мне остается лишь одно — вступить в схватку с этой царящей в пустоте темной ночью. Отложив щит надежды, я слушаю песню Шандора Петефи (1823–1849) о «надежде»:
Вот уже семьдесят пять лет прошло с тех пор, как этот великий поэт-лирик и венгерский патриот погиб за родину на острие казачьей пики. Как трагична его смерть. Но еще трагичнее то, что его стихи не умерли до сих пор.
Да, жестокая жизнь! Даже такой гордый и смелый человек, как Петефи, остановился, столкнувшись один на один с темной ночью, и обернулся к безбрежному Востоку. Он говорил:
Если я еще смогу влачить свои дни в этом беспросветном «обмане», я все-таки буду искать загубленную унылую и туманную юность, хотя бы вокруг себя. Потому что если и она погибнет, то моя собственная старость совсем захиреет.
Но сейчас нет ни звезд, ни лунного света, нет гибнущих бабочек, неуловимой игры улыбок, нет плясок любви. Да, молодежь безмятежна.
Мне остается только одно — вступить в схватку с этой темной ночью, царящей в пустоте. Если даже я не найду юность вокруг себя, то, во всяком случае, отброшу свою старость. Но где же эта темная ночь? Теперь нет ни звезд, ни лунного света, нет даже неуловимой игры улыбок и плясок любви; молодежь безмятежна, а передо мной, оказывается, вовсе нет настоящей темной ночи.
Как и надежда, отчаянье лжет!
Январь 1925 г.
СНЕГ
В теплых странах капли дождя никогда не превращаются в холодные и блестящие снежинки. Людям многоопытным дождь кажется однообразным, но как знать, считает ли он для себя это несчастьем?
К югу от Цзяна [279] снег выпадает очень мокрый и очень красивый. Это предвестник ранней, еще затаившейся весны, здоровый девственный покров. В заснеженных полях уже видны кроваво-красные жемчужины горного чая, белые в темно-зеленой чашечке цветы зимней сливы, темно-желтые каликанты, формой цветка чем-то напоминающие древний цинь. [280] А под снегом еще прячутся замерзшие травы. Бабочек нет, конечно, но вот летают ли пчелы собирать нектар с цветов горного чая и зимней сливы, этого я точно не помню. Просто мне кажется, будто я вижу, как в заснеженных нолях распускаются зимние цветы, как пчелы хлопотливо летают над ними, и мне слышится их жужжание.
Дети дуют на покрасневшие от холода ручонки, похожие на лиловые бутоны имбиря. Несколько ребят лепят из снега архата. Дело у них не ладится, и чей-то отец приходит на помощь. Архат получается гораздо выше самих детей. Пусть это всего-навсего комья снега, наверху ком поменьше, внизу побольше, пусть не вполне ясно, архат ли это или тыква-горлянка, но он, ослепительно-белый, красивый, слепленный собственной влагой, весь искрясь, излучает сияние. Из косточек лонгана — «драконова глаза» — дети делают архату глаза. Кто-то стащил у матери румяна из туалетной коробки и сделал архату губы. Теперь это настоящий большой архат, с яркими красными губами. Он сидит на снегу и таращит глаза.
На другой день дети приходят его навестить. Они хлопают в ладоши, кивают ему, смеются. Но в конце концов архат остается один. В ясные дни он подтаивает, холодными ночами вновь покрывается тонкой ледяной коркой, похожей на тусклый, непрозрачный кристалл. Ясные дни следуют один за другим, и архат превращается невесть во что, да и румян на его губах совсем не остается.
А на севере, в обильные снегопады, снег всегда сух, как пудра или песок. Он никогда не падает хлопьями, а рассыпается по крышам домов, по земле, по засохшей траве. На крышах снег тает быстро из-за тепла домашних очагов. А иной раз в ясную погоду вдруг налетает вихрь, подхватывает снежинки, и тогда они сверкают, искрясь и переливаясь в солнечных лучах, — кажется, будто это густой туман, окутывающий пламя, кружится и поднимается ввысь, заволакивает небо, отчего и само оно кружится и, искрясь, устремляется вверх.
Над бескрайними полями, под замерзшим куполом неба, искрясь и сверкая, кружится и устремляется ввысь душа дождя.
Да, это одинокий снег, это мертвый дождь, это душа дождя.
Январь 1925 г.
БУМАЖНЫЙ ЗМЕЙ
В Пекине зима, на земле еще плотным слоем лежит снег, черные ветви голых деревьев вырисовываются на чистом небе, и я с удивлением и печалью гляжу на бумажных змеев, плывущих вдали.
У меня на родине время бумажных змеев — второй месяц весны. Услышишь шум ветряного колеса, поднимешь голову — и видишь, как летит темно-серый краб или стоножка нежно-голубого цвета. А то еще бывает бесшумный змей-черепица. На нем нет ветряных колес, его пускают очень низко, и он кажется жалким и отверженным в своем одиночестве. На земле в это время уже появляются побеги на иве, ранний горный персик раскрывает цветы, и вместе с небом, украшенным бумажными змеями, приносят они ласку весеннего дня. Где же я теперь? Вокруг меня жестокий холод суровой зимы, и в этом воздухе проносится безвозвратно ушедшая весна моей родины, с которой я давным-давно расстался.
Но я никогда не любил пускать бумажных змеев; больше того, я ненавидел это занятие: я считал его забавой дурных детей. Не так смотрел на это мой младший брат. Ему было тогда лет десять, и змеи были страстью этого болезненного, худенького мальчика. У него не было денег на покупку змея, да я и не позволял ему пускать их, и он иногда часами простаивал, в восторге раскрыв рот и самозабвенно следя за небом. Вот неожиданно опустился паривший в высоте краб, и брат в испуге вскрикивает; разъединились две спутавшиеся в воздухе нитками черепицы, и он радостно прыгает. Мне все это казалось смешным и нелепым.