О любви
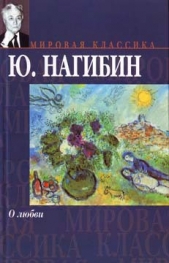
О любви читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагается сборник произведений известного русского писателя Юрия Нагибина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это давало пищу для размышлений, весьма непривычных… В другой раз старый солдат поправил Петрова, когда тот обмолвился, что так и не видел войны. «Как же ты ее не видел, когда здесь лежишь? Небось не с печи свалился. А дезертира ко мне бы не подложили. Другое дело, что повезло тебе здорово, самой малостью отделался. Без пальце́в (у него была манера ставить неожиданные ударения в самых простых словах) на лапе ты за милую душу проживешь, а главное — отыгрался, и совесть спокойна, и всего себя сохранил, без чуточка». Но совесть-то и не давала покоя Петрову, и он с жадностью вслушивался в неторопливые рассуждения солдата, учитывая их, но не принимая в утоление душевной истомы.
Оправдывая поведение Петрова с немцем и положительно относясь к его краткому пребыванию возле фронта, старый солдат не мог взять в толк, почему, будучи студентом-третьекурсником и располагая отсрочкой, он вообще оказался на фронте. «Не имели они права тебя брать, раз документы на руках!» — «Да я сам!..» — «Ты бы написал куда следует, обжаловал, им бы хвост накрутили! Где это сказано — раз война, все законы побоку?» — возмущался солдат. «Добровольно я, понимаешь, добровольно!» Петрову почему-то стыдно было произносить это соответствующее истине слово. «Мало ли что, — гнул свое солдат, — тебя небось профессоры учили, сколько ж это денег стоило! Нет, должны были доучить тебя до конца…»
Тогда Петров спросил солдата, а если бы, мол, тебя не взяли на войну по призыву, пошел бы ты сам? «Как же это могли меня не взять? Что я, больной или порченый, что, у меня глаз кривой или грыжа в паху?» — «Да нет, просто так, не взяли — и все!» — «Так не бывает. Кто же тогда врага отгонит?» — «Другие, — втолковывал ему Петров. — Считай так: народу хватает, и тебя оставили дома на развод. Пошел бы ты сам?» — «А без меня не может хватать, — возражал солдат. — Кто же на моем-то месте будет?» — «Свято место пусто не бывает, другой там будет, не хуже тебя, а может, и получше», — подначивал Петров. «Это, что ль, как в старину — богатые мужики за сынов своих в солдатчину некрутов покупали?» — усмехнулся солдат. «Ну, хочешь, так, хочешь, просто обошли тебя, забыли. Или, скажем, перебор произошел, и тебе говорят: ступай домой, без тебя справимся». — «Мое почтение! — заулыбался щербатым ртом солдат, и как-то распустилось, расслабилось его жесткое, подбористое лицо. — Со всем нашим удовольствием!»
Ясности разговор не дал: чтобы прийти к ней, требовалась слишком долгая и хитрая работа, — раненый и утомленный беспрерывными войнами, солдат упрямо отталкивал спасительную руку. «А кто же на моем месте будет?» — вот оно главное! Перед солдатом не стояло проблемы: идти — не идти, а все умозрительные предположения яйца выеденного не стоили. Петров же мог пропустить войну мимо себя, но не захотел этого и, что бы ни говорил солдат, правильно поступил. А вот то, что у него не получилось толка, — дело другое.
Рассуждения старого солдата мудры и оправдательны, но куда вернее его же: «А кто на моем месте будет?»
Из госпиталя Петрова отправили на комиссию. Годен к нестроевой службе в тылу — было заключение. Поглядев на его огорченное лицо, председатель комиссии сказал: «Вы студент-третьекурсник, вас охотно демобилизуют». Но этого как раз ему и не хотелось.
Возвращение в Москву осталось одним из самых жалких воспоминаний его жизни. Он решил поехать сперва к матери, перевести дух и собраться нацельно. Но, выходя из вагона на Ленинградском вокзале в числе других военных людей — отпускников, командированных, инвалидов, пронизанный чувством дорожного братства с ними, крепко и ладно оглушая всю свою солдатскую одежду — шершавую шинель с зелеными фронтовыми погонами, кирзовые сапоги, плотно натянутые на ватные брюки, и самодельную фуражку, которую выменял в госпитале на ушанку, ловко опираясь о кленовую тросточку и поддерживая большим пальцем лямку рюкзака, он пожалел, что жена его не встречает. Все мальчишеское, сохранившееся в нем, возжаждало этой встречи — фронтовика с верной фронтовичкой. Но когда он случайно угодил в раму высокого зеркала в зале ожиданий, то чуть не застонал от унижения. Навстречу ему с мутной пыльной поверхности ковыляла неуклюжая фигура какого-то ряженого. Из необмявшегося, широкого, как хомут, воротника куцей шинельки торчала тонкая цыплячья шея, на странно большой голове сидела милицейская фуражка — за неимением малинового околыша кустарь-картузник поставил бордовый, а тулья отливала синевой, на боку нелепо торчала сумка с противогазом, — он сразу увидел, что противогазов здесь также никто не носит, ремень без портупеи провис под тяжестью «нагана», грязный вещмешок завершал героический облик. Ко всему еще в этом шутейном одеянии ему можно было от силы дать лет семнадцать — школяр, решивший сбежать на фронт, или сын полка, которого не сумели должным образом экипировать.
Он не помнил, как добрался до дома. Когда улеглась первая слезная суматоха встречи, мать сказала: «Боже мой, ты же совсем ребенок! Как я могла тебя отпустить!» А потом полезла в залавок и достала что-то большое, серое, пыльное и траченное молью, что он поначалу принял за одеяло, но оказалось, это старая кавалерийская шинель его давно умершего отца. Мать сохранила шинель с Гражданской войны. Таких сейчас не носили: мышиного цвета, долгополая, чуть не до самой земли, с длиннющим разрезом сзади, с заостренными углами ворота и стреловидными отворотами на рукавах, приталенная и хотя с глухим солдатским запахом, но, судя по сукну, командирская, и даже со старомодным воинским шиком. Она сидела как влитая, прибавив Петрову роста, которым он и так не был обделен, скрывала кирзовые голенища сапог, оставив на обозрение только кожаные головки. Он почувствовал волнение: шинель облегала юношеское тело отца, которого он не знал, разминувшись с ним на пороге сознания и памяти. Она побывала на кронштадтском льду и под Варшавой, спасала отца от холода, дождя и снега, но от пуль спасти не могла, и крестики штопок помечали места, куда входил свинец. Под длинными полами шинели ходуном ходили потные бока усталого коня, на ее ворс падали искры костров. А сейчас эта боевая, продымленная и простреленная шинель послужит годному к нестроевой службе в тылу младшему лейтенанту, что вышел из боя, так и не вступив в него.
Мать достала потемневшие, потрескавшиеся, но все равно великолепные ремни и ушанку с пожелтевшим барашковым мехом и переколола на нее звездочку. Петров нахлобучил шапку, затянул ремни, и мать сказала: «Теперь я вижу, что ты изменился и возмужал». Он и сам с неожиданным интересом пригляделся к своему отражению в зеркале. Ему понравилась худоба смуглых щек и четкая линия прежде раздражающе мягкого рта. С таким лицом можно жить…
Жена и крепко спаянная семья ее довольно скоро доказали Петрову, что он переоценил волевой изгиб своего потвердевшего рта. У жены оказались новые друзья. Она никогда не имела близких подруг, предпочитая надежность мужской дружбы. На этот раз в друзьях ходили два молодых богатыря: безбородый Добрыня Никитич, оказавшийся, к удивлению Петрова, флейтистом-белобилетником, — у этого Вырвидуба были слабые нервы; и только что отпущенный из госпиталя военный моряк, с широкой грудью и ускользающим взглядом Алеши Поповича. Богатыри смущались Петрова, что поначалу доставляло ему даже некоторое удовольствие, словно доказательство его возмужания и особых прав, на Нину. Он любил Нину и привык верить ей, ему и в голову не приходило, что у богатырей тоже могли быть какие-то права на нее. И смущение их было браконьерским.
Нину он любил со школьной скамьи. В девятом классе она переехала в другой район, перешла в другую школу и стала недосягаемой. Все же год с лишним обивал он ее порог, терпеливо и огорченно выслушивая лицемерные сожаления Нининой матери, большой смуглой красавицы, похожей на креолку. Доверчивый, преданный и настырный, он появлялся вновь и вновь, не замечая, что Нинина мать откровенно издевается над ним, — за что она его так не любила? — не постигая охлаждения подруги и тщетно пытаясь найти какую-то свою вину. Он перестал ходить, поняв вдруг, что не может больше видеть ликующую людоедскую улыбку на смуглом лице. Он долго не мог понять, какие силы отвели от него Нину, хотя, конечно, догадывался о существе этих сил.























