Новый мир. № 3, 2004
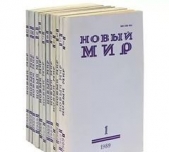
Новый мир. № 3, 2004 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прочитав это несколько раз, я почувствовал примерно то же, что должен был испытать какой-нибудь добросовестный критик 1890-х годов, на глаза которому попались строчки про «фиолетовые руки на эмалевой стене» и про «месяц обнаженный при лазоревой луне»…
Безусловно, подумал я, за шесть лет, протекших между первыми, «ангелическими», стихами Булатовского и стихами нынешними, переменилось слишком многое (похожее происшествие случилось когда-то с читателями Кузмина, чересчур доверившимися декларации про «прекрасную ясность»: глядь — а он уже герметичный, гностический, «темный»!). Но ведь было же, было, черт возьми?! Для самопроверки снова раскрыл «Белый свет»: «Рано клинышек забиваешь, / Белые зубки дерешь, / Ты ли вовсе не летаешь, / Не поешь…» И с изумлением обнаружил, что и тут — не понять! Какая «Ласточка», какой Державин? Я-то всегда думал, что это про птичку (ну, пусть про какую-нибудь метафорическую птичку). Но откуда же тогда «зубки»? Над «зубастыми голубями» графа Хвостова все некогда долго смеялись, а здесь что? И что это за «клинышек»? Или другое оттуда же, из старой книжки, прелестно-невразумительное:
…………………………….
Еще там было «лататы», и «тыр-тыр-зы», и «хырр-ву, хырр-ву, хырр-ву» — просто-таки самая разнузданная глоссолалия, — но это хоть мотивировалось жанром: «колыбельной Федюшке» и сказочки про какого-то «Жылво-зверя».
А в «Полуострове», в некоторых его вещах, все слова по отдельности были понятны, но совокупный свой смысл выдавать не желали ни за что.
И я стал придумывать версии. Простейшая сводилась к тому, что в некоторых случаях автор темнит намеренно — заметает следы, зашифровывает какие-то слишком уж личные обстоятельства биографии. Поводы так думать книжка давала. Там были, например, чудные строчки про то, как «…вдоль берега реки, / В огне вишневых кирпичей / Она идет, и каблуки — / Звончей, звончей, звончей, звончей…», но встреча не произошла: «…Она глядит вперед-назад, / А берега — пусты, пусты…» Было стихотворение с эпиграфом «По муромской дорожке…», прямо отсылающим к печальной истории про «миленького», который «нарушил клятву». И нечто мучительно-эротическое из Йейтса, заканчивавшееся сентенцией: «…Кто любил слишком долго, стал как сухой ствол, / А в нем — летучие мыши, рой золотых пчел». И т. п.
Но имелись и другие непонятные стихи, в «интимную» версию никак не укладывавшиеся. Скажем, «Выстрел», про который компетентный автор вступительной заметки к книге, Б. Рогинский, с полной определенностью пишет, что это «стихи о Шекспире». Сам бы я не догадался, но когда знаешь, то, конечно, приметы набираются: «сквозняк, продувающий сцену», «бунт на плечах голытьбы», «сквозняк в переходе застенка», «черные — в ночь — скакуны», «пар, золото, синь, кружевная сорочка»… — почему бы, собственно, и не Шекспир, не «Гамлет»? Однако к чему и о чем?
Я закрыл книгу и увидел строфу одного из ее стихотворений, вынесенную на последнюю страницу обложки, — как бы программно:
Такое вот резюме, итоговый автокомментарий, свидетельствующий, во-первых, о том, что проблема осознанна, во-вторых же, что для автора она, как и для нас, — открыта.
Иногда он исполняется сочувствия к читателю, дает нам передышку. Есть в «Полуострове» две вещи, написанные совсем иначе, нежели остальные, — прозрачными, медленными александринами. Первая, располагающаяся точно в середине книги, — «Элегия». Ее протяженные периоды почти невозможно здесь процитировать; скажу только, что это отчасти «Ars poetica» Булатовского (только отчасти! — потому что никак не касается его «герметических» опытов): речь идет о традиции поэтического освоения русскими лириками двух территорий, Финляндии и Италии, о воспевших эти края Батюшкове, Баратынском, Комаровском, Мандельштаме и далее (все-таки приведу кусочек):
Это могло бы показаться только стилизацией, старательным упражнением в классическом стихе, если бы не тонкая игра с силлабикой, русскому александрийскому стиху не свойственной, но экспериментально испробованной в 20-е годы Шервинским в его «Стихах об Италии». И когда Булатовский говорит про свой «неумелый стих», мы улыбаемся, потому что вполне можем оценить этот его шутливый tour de force.
Другая вещь, тоже выдержанная в александринах, но уже правильных и заключенных в восьмистишные строфы, книгу замыкает — поэма «Цветочница», которую предваряет авторское пояснение: «Поэма Василия Комаровского (1881–1914) „Цветочница“ не сохранилась. До нас дошло только ее название. Если можно считать название фрагментом, то по этому фрагменту я попытался „восстановить“ первую главу поэмы». И это, конечно, шутка, но лишь отчасти — за ней высокая мера сострадания к самому несчастливому из царскосельских поэтов, попытка вернуть ему частичку недожитой жизни: «Среди особняков, среди теней бульварных, / Среди застылых луж, по осени коварных, / Под небом, сгинувшим в пожаре ледяном, / Иду и мерзну я, вдруг свет большим пятном / Ложится под ноги: огромная витрина, / За ней — цветы, цветы, и в джунглях магазина / Мелькнула чья-то тень, склонилась, поднялась, / Поправила букет, с корзинкою прошлась…» Сквозь подражание пробивается и пушкинский свет, столь жадно когда-то Комаровским впитывавшийся, а где-то рядом угадывается веянье стиля еще одного русского европейца, реализовавшего свою судьбу вполне и с галлюцинаторной яркостью изобразившего ее истоки в «Других берегах».
Эта классика — один из полюсов поэтики Булатовского, может быть, по-настоящему ему родной, но без противоположного не существующий. Подобное положение вещей описано в совместной статье Булатовского и Рогинского, посвященной Льву Васильеву:
«Подвижная субстанция времени (ветер, река, плывущий день) не умещается в рисунок „решеток на канале“, не высвечивается „лучиком сознания“, между творческим разумом и текучей стихией мира есть вечный зазор». И дальше: «В этих стихах ничто сильно не задевает слух, все кажется понятным и как будто не требует расшифровки <…>. Но если мы попытаемся сформулировать, в чем же оно все-таки заключается, „о чем“ стихотворение, сделать это будет нелегко. А при внимательном чтении с попытками понять смысл каждой фразы мы окажемся просто перед лицом хаоса».
Читатель смущается смысловым «хаосом» текста, но автору трудней: он-то предстоит хаосу мира. Или то, что для нас хаос, есть не понятый нами порядок? А может — непостижимый? Иногда Булатовский к такому варианту и склоняется — в последних строках, например, своего странного «Выстрела», где губительная стрела летит «…Сквозь алую плоть скотобоен, / В чернеющий зала провал, / Туда, где спокоен, спокоен, спокоен / Лишь автор, хранящий финал». Или же это только о лондонском драматурге?
В поэтическом голосе Булатовского есть оттенок смирения, чрезвычайно теперь редкостный. Радостного и умиленного в первых книгах, в нынешней же — чаще печального. Но и здесь умиление не иссякло — им проникнуто переложение 130-го псалма:
























