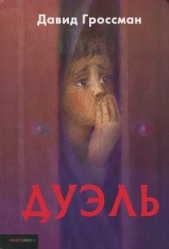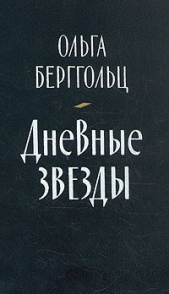См. статью «Любовь»
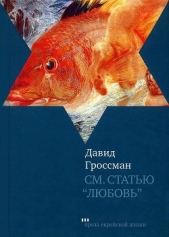
См. статью «Любовь» читать книгу онлайн
Давид Гроссман (р. 1954) — один из самых известных современных израильских писателей. Главное произведение Гроссмана, многоплановый роман «См. статью „Любовь“», принес автору мировую известность. Роман посвящен теме Катастрофы европейского еврейства, в которой отец писателя, выходец из Польши, потерял всех своих близких.
В сложной структуре произведения искусно переплетаются художественные методы и направления, от сугубого реализма и цитирования подлинных исторических документов до метафорических описаний откровенно фантастических приключений героев. Есть тут и обращение к притче, к вечным сюжетам народного сказания, и ядовитая пародия. Однако за всем этим многообразием стоит настойчивая попытка осмыслить и показать противостояние беззащитной творческой личности и безумного торжествующего нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, — подтверждает Найгель с легкой издевкой, — у Кайзлера имеется воображение. А скажи, Вассерман, ведь с этим его воображением он, наверно, тоже мог бы стать писателем? Как ты полагаешь?
Вассерман думает: «Как бы не так — фиг тебе! На-кася выкуси!» — а вслух говорит:
— Мог бы, и еще как мог бы, определенно мог бы.
Найгель — спокойно:
— А ведь я в точности знаю, что ты сейчас думаешь, говночист. В своем маленьком еврейском сердце ты сейчас радуешься, и ликуешь, и твердишь себе: «Наци — писателем? Ни в коем случае! Никогда наци не сможет быть настоящим писателем. Они, которые тут, не умеют они почувствовать ничего человеческого». Признайся, Шахерезада, прав я в своем предположении?
Разумеется, он прав. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он прав. И я знаю, каков будет ответ моего деда. Я даже стараюсь снабдить его фактами. Так, например, в школе СС, в фюрершуле в Дахау возле Мюнхена (где наверняка проходил курсы усовершенствования и Найгель), на классной доске постоянно красовались священные лозунги, гласившие: 1. Основа основ: партийная дисциплина! Главное — повиновение. 2. Воля и горячее стремление выполнить приказ преодолевают любые сомнения и постыдные слабости, как, например, проявление жалости и сочувствия. 3. Любовь к ближнему оставим для немцев, верных заветам Адольфа Гитлера.
И когда я вижу, что Вассерман все еще колеблется, я вручаю ему неотразимый и несокрушимый ответ, который он может без всякого опасения высказать Найгелю. Ответ, который изобрел для нас, по милости своей, сам Адольф Гитлер, заявив в своей речи в Берлине в тридцать восьмом году: «Совесть — это еврейские штучки». Фраза, которую бригадный генерал СС Юрген Штруп, немецкий комендант Варшавы в период восстания, растолковал следующим образом: «И тем самым освободил нас, членов партии, от каких-либо угрызений совести и от самой совести как таковой».
И вот теперь эта сентенция катится к Вассерману, как брошенный с силой кегельный мяч.
— До такой степени? — не верит он. — Ай, тяжелую ношу возложил на нас мазила из Линца, пусть у него будет добрый и краткий год! — но вслух говорит Найгелю: — Не дай Бог мне даже помыслить такую вещь про ваших соратников, господин!
— Трус! — бросает Найгель с презрением, очевидно вполне оправданным. — Ты лжец и презренный трус! Я мог бы еще как-то уважать тебя, если бы ты не был таким низким лжецом и трусом. — И подкрепляет свои слова надменной ухмылкой. — И такая мерзкая, ничтожная тварь, готовая ползать на брюхе, берется воспитывать подрастающее поколение в духе высоких идеалов и массового героизма! Учить беззаветной отваге и гордости! Интересно, на основании чего ты вообразил, что тебе дозволено наставлять и направлять юных читателей? Ведь твои гнусные подлые мысли прямо-таки торчат из тебя!
Еврей:
— Сохрани Господь, ваша милость! Мне — наставлять и направлять?.. Кто я такой, чтобы наставлять и направлять? Упаси Бог…
И тут же мне:
— Разумеется, Шлеймеле, здесь он угадал — боюсь я его, и еще как боюсь! Пуще огня боюсь. А что ты думал? Что мне радостно стоять тут перед ним? Что благодать растекается по моим членам при звуке его голоса, что вожделею я слышать сладость его изречений? Душа уходит в пятки при каждом его взгляде и движении! Посмотри на него и посмотри на меня: он такой громадный, чтобы не сглазить, сущий медведь, вепрь стопудовый, лев рыкающий, тело, как железная болванка, а я? Смелость мне тут подходит, как мудрость ослу. Даже когда нечаянно застрянет палец мой в ушке чайной чашки, тотчас обливаюсь я весь холодным потом от ужаса, словно попал в охотничий капкан, а теперь… Ну, поди рассказывай этому гою, как трясутся все мои кости, как дрожат все поджилочки!
Немец (тоном раздумья): Итак, подытожим. Мы имеем тут старого трусливого еврея, который в силу какого-то недоразумения не умеет умирать, и к тому же он еще немножечко сочинитель. А почему бы нам, собственно, не устроить маленькую шутку — не щелкнуть слегка по носу Штауке?..
Вассерман: Пардон, ваша честь?
Найгель: Доктор Штауке, мой заместитель…
Вассерман: А, да, сдается, и я с ним малость знаком. И как же ваша милость собирается его щелкнуть?
Найгель: Ведь Штауке, прохвост, обнаружил тут Шейнгольда.
Вассерман (мне): Ну, ты сам понимаешь, Шлеймеле, у меня все кишки и все внутренности перевернулись в утробе в ту же минуту. При чем тут Шейнгольд и при чем тут я? Шейнгольд этот, может, и ты прослышал как-нибудь стороной о его славе, был дирижером самых лучших оркестров в самых роскошных ресторанах Варшавы. Но и его не миновала скорбная наша доля — тоже прибыл сюда с одним из транспортов, да, несколько лун назад прибыл, и уже был раздет донага, и бежал по шлауху, и отведал украинских дубинок — чтобы гадкая болезнь поразила их, этих украинцев, чтобы десны у них распухли и все зубы выпали! — и прочитал уже «Шма Исраэль», и почти что затолкали уже его внутрь, как говорится, в ихнюю святая святых, и вдруг докладывает кто-то Штауке, что за птица попалась к нему в силки, и кто он, этот Шейнгольд, и что он такое в музыке. И Штауке в ту же минуту берет его ото всех и приказывает ему тут же устроить в лагере первоклассный оркестр, даже дирижерскую палочку из янтаря, скипетр, так сказать, дирижера, вручает ему, и Шейнгольд, разумеется, не верит своему счастью, благословляет Господа за чудесное свое спасение и, собравшись с силами, подбирает оркестр на славу! И не успокоился, пока не поставил на хорошую ногу и хоры: мужской и женский, потому что человеческий голос, Шлеймеле, не мешает тебе знать, — основа музыки, и присоединил к ним несколько исполнителей на скрипке и на флейте, а ты, верно, слышал, мой мальчик, как обожают сыны Исава всякие оперы и кантаты, и особенно получают от них огромное удовольствие после того, как обагрили руки свои нашей кровью, потому что у них, видишь ли, тонкая душа, и иногда, в торжественные дни Рейха или в самый главный их праздник — день рождения крошки Адольфа, чтобы вспомнил уже о нем Господь и дал ему новую душу, — удостаивались и мы небольшого подарка: послушать музыку, и прекрасные звуки ее в ушах наших были как пение арфы, и гобоя, и кимвала, и бесподобного органа в Иерусалимском храме. Ах, какая это была песнь! Умела она оторвать душу человека от бренного его тела и отправить ее к своему источнику… Да… А открывали каждый концерт лагерным гимном. Ой, Шлеймеле, тут не только мотив, тут и слова имели значение: «Здесь у труда есть вкус жизни, долга и Дисциплины, будь исполнителен, тогда малое счастье, та-та-та (забыл!), засияет однажды и нам…» Да. Ну, а еще играли марш польской армии: «Мы, перша бригада», — и завершали, на десерт, так сказать, песней, которую написал один из наших по мелодии из кинофильма «Девушка из Пущи». Губки оближешь и язык проглотишь!
Найгель все еще молчит. Раздумывает о чем-то. Я замечаю вдруг какую-то несообразность в его лице: нос и подбородок очень крупные и определенно свидетельствуют о силе и решительности, во всяком случае, в первый момент производят именно такое впечатление. Глаза тоже приковывают к себе внимание, под этим взглядом каждый вскоре невольно начинает ощущать смутную неловкость и беспокойство. Но потом тебе открывается, что есть в этом громоздком властном лице мертвые зоны, попросту никакие, лишенные всякого смысла. Не по возрасту дряблые щеки, например, и слишком широкий плоский лоб. Все участки, ответственные за речь и мимику, в том числе и нижняя губа, и ложбинка под ней, абсолютно ничего не выражают, ни одна черта характера не сумела укорениться там. Но сейчас, без сомнения, главенствуют нос и подбородок.
— Слушай, говночист, — произносит он наконец, — есть у меня небольшая идейка. Что-то такое, что, возможно, позволит тебе остаться в живых и даже устроиться тут получше. Видишь ли…
Вассерман весь съеживается, пытается спрятаться в своей пышной шутовской мантии, словно в раковине, и бормочет оттуда еле слышным дребезжащим и скрипучим голосом:
— По правде сказать, не испытываю я такого желания… Остаться в живых…