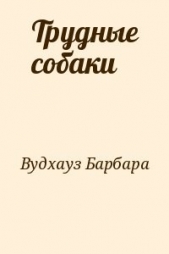Стрекоза, увеличенная до размеров собаки

Стрекоза, увеличенная до размеров собаки читать книгу онлайн
В России, где мужчины из поколения в поколение гибли в войнах, пропадали в ссылках и тюрьмах, спивались, чисто женская семья — явление обыденное, но от этого не менее трагическое. Роман молодой уральской писательницы Ольги Славниковой посвящен истории взаимоотношений матери и дочери, живущих вместе. Шаг за шагом повествование вводит нас в `тихий ужас` повседневного сосуществования людей, которые одновременно любят и ненавидят друг друга. И дело здесь не только и не столько в бытовых условиях, мешающих обустроить личную жизнь двух женщин. В фатальное противоречие вступают мысли и чувства, но эта борьба искусно замаскирована флером внешних приличий. И лишь пристальный взгляд способен увидеть истинное положение вещей. Так хорошенькая безобидная стрекоза под беспристрастной оптикой превращается в страшного прожорливого хищника…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
глава 7
Маргарита, раз явившись к Катерине Ивановне домой, не забыла дороги и стала приходить по субботам, накрашенная и завитая плойкой, так что голова ее напоминала внутренности разодранного дивана, хаос из желтой ваты и развесистых пружин. Маргарита не вторгалась в квартиру подобно Комарихе, а скромненько стояла на коврике возле двери, дожидаясь, пока Катерина Ивановна соберется «в город». На появления Софьи Андреевны она улыбалась до ушей, подобострастно вытирала ноги, запинаясь о складки вздыбленного половичка. Катерина Ивановна заметила, что мать при Маргарите стесняется заходить в туалет. Как правило, у подружки бывали уже куплены билеты в кино: Маргарита особенно любила французские комедии за дружный смех тесновато-скрипучего зала, освещаемого от экрана цветными бегущими пятнами. Маргарите нравилось, что мужчины сидят расстегнутые и без шапок, что у женщин по-домашнему примяты волосы, тогда как на экране все ненатуральное, подстроенное, и можно смеяться над приключениями пестрых французов хоть десять сеансов подряд.
Самое любимое чувство Маргариты было — солидарность. Она всегда хотела быть со всеми заодно и делать что-нибудь вместе, — слыла безотказным человеком для ноябрьских и майских демонстраций, кричала и прыгала перед трибунами, повисая всем болтающимся телом на своей шеренге, пила изо всех предлагаемых фляжек, и, вероятно, растянутое шествие, с проплешинами и бегущими рядами, представлялось ей куда более благородным и слитным, чем было в действительности. Как ни странно, именно ее надорванный и страстный голосок, выбиваясь из хора, звучал фальшиво; именно она, захмелев, умудрялась в конце концов со всеми перессориться, если не разодраться. Маргариту, как не относящуюся к начальству и рабочему классу, не хотели принимать, но она добилась своего и вступила в партию. О своем партбилете, вечно хлопавшем створками в одном из карманов ее мешковатой сумки, Маргарита не забывала никогда, знала длиннющий номер этой деревянной штуки наизусть. Чувство, что она коммунист (Катерина Ивановна испытала нечто подобное, только когда вступила в пионеры и отдавала салют Всесоюзному сбору, передаваемому по телевизору), — это иррациональное чувство причастности ко всем вообще чужим делам оставалось у Маргариты свежим долгие годы, как и многие другие волнующие чувства, придававшие жизни Маргариты непонятную для многих остроту.
Окружающие люди недолюбливали Маргариту. В этом Катерина Ивановна убедилась, побывав у нее в общежитии — двухэтажном деревянном домище, чем-то похожем с улицы на вокзал какой-нибудь Богом забытой станции, с покореженным каркасом телефонной будки у крыльца, где все внутри было исцарапано неизвестно кому принадлежащими номерами. Вестибюль имел неправильную форму, точно его, как бесполезный и нежилой, теснили соседние помещения; от него отходили абсолютно темные коридоры, где встречные люди обнаруживались десятым чувством и делались видны, только если отпахнуть какую-нибудь дверь, после чего приходилось стоять, нашаривая стену, от которой успел отойти. Комната на четверых, где обитала Маргарита, была квадратная; ее почти целиком занимали четыре ровно застеленные койки; их одинаковый уровень над полом и сырость по ногам создавали впечатление, будто комната состоит из жилого верха и подвала, где, не попадаясь на глаза, но все время подворачиваясь под ноги, крутился какой-то резиновый мячик. Пока Катерина Ивановна и Маргарита пили индийский чай, три другие девушки, тоже бывшие здесь, сидели каждая у себя и нянчили свои раздавленные подушки. Они не принимали участия в чаепитии, хотя одна, пожилая и заплаканная, принесла из общего холодильника завернутый обрубок колбасы и положила рядом с собой на тумбочку, видом напоминавшую табуретку. Девушки, должно быть, ожидали очереди к столу, и когда Катерина Ивановна полезла за сахаром в одну из четырех закаменелых банок, Маргарита поспешно показала на другую, а кто-то из соседок даже привстал поглядеть через гостьино плечо. Из-за этой отчужденной обстановки Катерина Ивановна решила в общежитии больше не бывать, но заходила все-таки по делу, всякий раз неудачно. Даже общежитский вахтер, сухой старикан, всегда сидевший боком к барьерчику со своей обвислой газетой, на робкий вопрос о Маргарите, не оказавшейся дома, злобно выпучивал желтушные глаза, словно Катерина Ивановна нарушала какое-то неписаное правило.
На службе к Маргарите, несмотря на постоянный вокруг нее веселый гвалт, тоже относились прохладно. Катерина Ивановна поняла это далеко не сразу, от нее словно специально что-то скрывали, разговаривая и пересмеиваясь с Маргаритой, а на нее не обращая никакого внимания, — так что Катерина Ивановна в конце концов вообразила, что сама пришлась не ко двору. Интеллигентные женщины из отдела информации были как раз такого типа, какой Катерина Ивановна высматривала на улицах: очень городские, уверенные в себе, — правда, в их консервированную молодость было несколько переложено сахару. Катерина Ивановна втайне удивлялась, как морщины могут быть такими заглаженными и совершенно не ветвиться; у женщин постарше это приводило к тому, что лицо делалось либо плоским, состоящим из нескольких лепешечек, либо одутловатым, с воланами подбородков на кружевных воротниках.
Солнечный пенальчик машбюро был для них всего лишь навсего местом, куда почти не заглядывали мужчины. Здесь они продавали друг другу разные импортные кофточки, мерили их перед зеркалом на створе распахнутого шкафа и ставили Маргариту караулить под дверью, которую она то и дело приотворяла убедиться, что никто не идет. Зеркало представляло собой хорошенький овал, украшенный белыми разводами наподобие морозных узоров; то было время сувениров, когда в магазинах не продавали ничего, кроме самых ненужных вещей, которым, однако, пытались придать существенность при помощи разных выдумок, сделать их вопреки назначению комнатными игрушками, бутафорией сказки. И если Катерина Ивановна иногда подолгу зарилась на светильник в виде жестяной кареты или на плексигласовый брелок, то Маргарита безошибочно ощущала ложную природу огромных стеклянистых магазинов, где ничто не покупалось для себя, и хватала все подряд, сразу думая, кому бы подарить. Что касается дам из отдела информации, то они вообще на дух не принимали сувениров, и в этом неприятии была корпоративная суровость. Несколько звероватые без платьев, растрепанные, зубами рвущие запечатанный целлофан, они хотели настоящее идля себя; они не нуждались в каких-то дешевых штучках для выражения взаимных чувств и одергивали на себе французские блузки с висящими этикетками, будто военную форму. Видимо, им подсознательно претило сувенирное уменьшение предметов, особенно гнусное из-за того, что оно выходило ласкательным, со многими завитушками вроде суффиксов, которые Софья Андреевна вдалбливала ученикам отдельно от слов. В уменьшенном виде любая пошлость на грани подлости сходила с рук — но дамы отдела информации, должно быть, обладали свойством видеть вещи в натуральную величину: всю эту грубую жесть, пластмассу с потекшими кромками — крашеную неправду, среди которой они не могли оставаться собой. Если им предлагалась карета, они хотели настоящую, как бы это ни было невозможно; у себя в садовых домиках они, не желая довольствоваться электрическими уродами с негреющей подсветкой, сооружали настоящие камины, — и однажды такой теремок сгорел, прожарив ближние сосны, оставшиеся вместо ветвей как бы с прибитыми лосиными рогами: часть отдела ездила посмотреть и помочь. Практичность дам отдела информации, жадность к хорошим вещам оборачивались рискованной романтикой; в ситуации, когда настоящее, в смысле вещей и собственно времени, было как бы под запретом, они оставались непримиримо искренними. Самая мысль, что сувенирное коробчатое безобразие с выходящим из него простодушным проводом для включения в сеть может, будучи подаренным, напоминать кому-то именно о них, вызывала у дам саркастический смех.
В каком-то смысле Маргарита, с ее любовью к детской игре дарения и страстью бегать по магазинам, была для них находка: в отделе отмечалось удивительно много юбилеев и прочих праздников, личных, но с общественным уклоном, и активистка Маргарита добывала для героя какой-нибудь письменный прибор в виде знамени или советской космической ракеты, что считалось наравне со знаменем, а то и настольные часы с явственным намеком на Мавзолей. Во время торжественной части, когда начальник отдела, видный толстоногий мужчина в больших очках и с маленьким ртом, несколько жеманно переваливал юбиляру увесистый презент, зардевшаяся Маргарита скромно опускала глаза, а дамы, позолоченные пудрой и ярким электричеством, переглядывались поверх ее кудлатой головки и даже позволяли себе поворот осторожного пальца около виска. Все они были не такие, как Маргарита и Катерина Ивановна, вспоминавшая, кстати, Олега и сентиментальный подсвечник-сувенир поперек ведра, вставший так словно бы от волнения, как застревает в горле недосказанное слово. Чуждые, чужеродные дамы, хоть и отличались друг от друга по размерам чуть ли не вдвое, были в глазах Катерины Ивановны чем-то нестерпимо одинаковы, и она, не удерживаясь порой от искушения что-нибудь у них стащить, после не могла припомнить, чья же это шелковистая, немного грязная вещица. Из-за этого ей казалось, будто она теряет с ними всякую связь. Катерина Ивановна почти не могла разговаривать с «коллегами», ей мерещилось, будто их непринужденные фразы и ее, застревавшие на языке, должны обращаться к некоему посреднику, которого не видно, — и при этом было бы просто смехотворно глядеть друг другу в глаза. Даже когда любезные дамы обращались к Катерине Ивановне просто за чаем, той казалось, будто, ставя между нею и собой сахарницу и тарелку с печеньем, они нарочно воздвигают преграды, чтобы подчеркнуть свою исключительность.